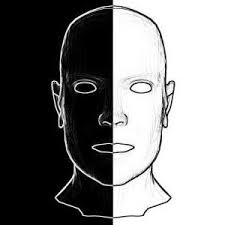
Тело и душа как метафоры, выражающие двойственную природу человека, в западноевропейской культуре обыгрывались многократно и на разный лад. Средневековая латинская новелла XIII в. «О наследстве и ликовании верной души» весьма причудливо, иносказательно выражает эту имманентно присущую самосознанию нашей культуры раздвоенность человеческого существа:
Некий богатый человек послал двух своих сыновей учиться, дабы они приобрели знания, обогатили ум и могли встать на свои ноги. По прошествии некоторого времени отец повелел им возвратиться. Узнав его волю, братья поспешили домой. Один из них, весьма довольный необходимостью вернуться, приехал домой и был радостно встречен и сделан наследником. Второй брат, напротив, был огорчен. Когда он вернулся, мать, выбежав навстречу и целуя сына, откусила ему губы, сестра вслед за матерью, желая его поцеловать, откусила ему нос, а брат при таких же обстоятельствах вырвал ему глаза; вышел отец и схватил сына за волосы так, что сорвал с головы его кожу [Новеллы 1980, 102].
В аллегорической форме здесь представлены взаимоотношения между душой и телом в духе средневековой христианской традиции, в основе которой лежит платоновский дискурс:
…божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей степени подобна наша душа, а человеческому, смертному, постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и несходному с самим собою подобно… наше тело («Федон», 80b).
Душа и тело не мыслятся друг без друга: тело как носитель порока и первородного греха тем не менее является и средством спасения. И все же Средневековье предает телесность забвению. С одной стороны, противостояние духовного и телесного начала в человеке артикулируется именно в Средние века, с другой, одна из сторон противостояния – телесность – должна быть побеждена[1]. В конце концов, христианское воскрешение не в духе, но в теле и есть полное преодоление раздвоенности человеческого существа: «Если живете по плоти, то умрете» (Рим. 8:13), ибо «помышления духовные – жизнь и мир» (Рим. 8:6). Телесная негативность полностью снимается в идее воскрешения в новой плоти. Христианские праведники будут блаженствовать в раю, получая это блаженство в качестве награды за преодоление страстей и пороков при жизни. Спасенные будут «…вкушать все дозволенные радости рая, где все пять чувств почитаемого тела будут приносить ему радость. Благодаря зрению спасенный будет постоянно созерцать Господа и небесный свет, благодаря обонянию он погрузится в аромат цветов, слух донесет до него музыку ангельского хора, вкус позволят насладиться несравненной небесной пищей, а осязание – соприкосновением с чистейшим воздухом небес» [Ле Гофф, Трюон 2008, 9]. Те грешники, кто не смог перебороть в себе вожделения тела, не способные отрешиться от земных благ, будут обречены на телесные муки, их плоть будет страдать вечно в аду. В райской же телесности праведников нет ничего от прежней человеческой телесности, склонной к порокам, к несдержанности.
Художники эпохи Возрождения, изображая нагие тела[2], не столько примирили эти два конфликтующих начала в человеке, легитимируя перед гневным взором священнослужителей новаторскую живопись аргументом: «Господь создал Адама нагим», сколько, обнажая человека, обнажили и сам конфликт. С одной стороны, тело благодаря художнику перестает быть только лишь источником греха и средством спасения. Человеческое тело становится воплощенной в материи идеей красоты: «Бог создал мир, но как же этот мир прекрасен, как же много красоты в человеческой жизни и в человеческом теле, в живом выражении человеческого лица и в гармонии человеческого тела! Мир лежит во зле, и со злом нужно бороться. Но посмотрите, как красиво энергичное мужское тело и как изящны мягкие очертания женской фигуры! Ведь все это тоже есть создание божие» [Лосев 1978, 30]. С другой стороны, прекрасное человеческое тело не может не оказаться в эпицентре мирских удовольствий. В стихотворении Микеланджело подчеркнута роковая связь души и тела, их взаимозависимость. При всей противоречивости их союза, переплетение душевного и телесного неизбежно и всегда переживается драматично (перевод А.М. Эфроса):
По благости креста и божьих мук
Я, отче, жду, что удостоюсь рая;
И все ж, пока во мне душа живая,
Земных утех все будет мил мне круг.
Франсуа Вийон в «Споре души и тела» (Le débat du cœur et du corps de Villon) представляет душу и тело противостоящими друг другу, говорящими, но не способными договориться ни о чем, сколь бы понятными ни были слова, произносимые оппонентами в извечном споре. Душа требовательно призывает тело одуматься, ирония же состоит в том, что телу никак не взяться «за ум» (перевод Ильи Эренбурга):
– Тебе уж тридцать лет. – Мне не до счета.
– А что ты сделал? Будь умнее впредь.
Познай! – Познал я все, и оттого-то
Я ничего не знаю. Ты заметь,
Что нелегко отпетому запеть.
– Душа твоя тебя предупредила.
Но кто тебя спасет? Ответь. – Могила.
Когда умру, пожалуй, примирюсь.
– Поторопись. – Ты зря ко мне спешила.
– Я промолчу. – А я, я обойдусь.
Душа и тело радикально противопоставляются позднее, в Новое время. В субстанциальном дуализме Декарта физическое и психическое разводятся как принципиально несоотносимые друг с другом сущности. За ментальным закрепляются такие свойства, как: безвидное, единственное, неделимое, свободное, активное, а за физическим – многое, делимое, детерминированное, видимое, пассивное. Антропологическая проблема, сформулированная в таком ключе, открыла большие возможности для критики и поиска ответов на такие вопросы, как: является ли человек сложным физическим объектом? Если нет, то, может быть, человек – это его сознание? Каково именно отношение между сознанием и телом? И является ли человек сознанием, обладающим телом, или же телом, обладающим сознанием? Могли бы люди быть материальными душами, продолжающими существовать после смерти тела, или это исключено современной наукой? А не является человек его мозгом? И как «серое вещество» может быть связано, если вообще связано, с сокровенными мыслями и эмоциями [Прист 2000, 17]? В зависимости от того, какие ответы даются на эти вопросы, создается та или иная концепция человека, или его «Я».
Тело может признаваться «темницей души» (Платон), или душа может быть объявлена источником телесного разложения: «Не плоть тленная сделала душу грешной, а грешница душа сделала плоть тленной» (Августин, «О граде Божьем», кн. 14, Гл. III). Или же основная роль в конституировании неповторимого человеческого «Я» отводится попеременно то душе, то телу: «Красота души придает прелесть даже невзрачному телу, точно так же, как безобразие души кладет на самое великолепное сложение и на прекраснейшие члены тела какой-то особый отпечаток, который возбуждает в нас необъяснимое отвращение» (Лессинг, «Эстетика»). Сколь бы не различались эти подходы к осмыслению сущности человека через определение отношений между душой и телом, исходное допущение у них одно и, говоря словами Николая Кузанского, состоит оно в том, что «человек… есть союз души и тела, разделение которых производит смерть» («Об ученом незнании», кн. 3. гл. VII; курсив наш. – Н.Г., Г.К.).
Человеческая смертность как точка сгущения многих вопросов, и экзистенциальных, и естественнонаучных, служит опорой в размышлениях о гипотетическом преодолении ограниченности человеческих возможностей. Понимая человека через метафоры «души» и «тела», выходить за границы возможного опыта – значит обретать больше ясности относительно того, что же такое человек. Что будет, если тело и душа человека, действительно, утратят связь меж собой? Если бессмертие будет даровано телу, но душа будет подвержена порче? Если душа обретет вечную жизнь? Если живое тело частично утратит способность воспринимать окружающий мир? Фантастические ситуации, рождающиеся под пером писателя, в которых оказываются обладатели человеческих душ и тел, не стесненные привычными земными рамками существования, заданными самой природой, потому и представляют здесь особый интерес.
Герой романа Оскара Уайльда Дориан Грей, преодолевает конечность человеческого существования, становится бессмертным. Разделение тела и души, образно представленное в романе через перенесение моральных качеств героя на искусственно созданный шедевр – его портрет, позволяло ему сохранять тело в неизменном виде, пока душевные пороки с каждым новым днем его жизни все сильнее искажали изображение на холсте. Чем больше его порочная душа дряхлела под тяжестью мерзости его поступков, тем безобразнее становился портрет, душа погибала вместе с изображением, а смерть к герою пришла в момент уничтожения портрета, его вынесенной вовне души, которая волей автора романа проживала как бы двойную жизнь – и в теле самого Дориана, и на холсте. Однако это удвоение было односторонним: тело Дориана было бессмертным, душа же, обретшая «плоть» в качестве изображения его тела, напротив, уязвима. Урок Уайльда ясен: заключая сделку с дьяволом и обретая бессмертие, вместе с тем теряешь и человечность, как в прямом, так и в переносном, моральном значении. Быть человеком – значит быть смертным, испить чашу конфликта души и тела до дна. Обещание бессмертия в данном случае означает дьявольское приглашение к перевоплощению, принятие которого знаменует собой человеческую смерть.
В серии рассказов Станислава Лема «Приключения Иона Тихого» одна из историй посвящена профессору Коркорану, создавшему железные ящики, внутри которых располагались сознания, воспринимающие и мыслящие как внешний, так и свой внутренний мир, переживающие воображаемую телесность. Их мир ничем не отличен от нашего, человеческого, кроме того, что они железные ящики, но не люди:
Почитайте труды философов, Тихий, и вы убедитесь, как мало можно полагаться на наши чувственные восприятия, как они неопределенны, обманчивы, ошибочны, но ведь у нас ничего нет, кроме них; точно так же… и у них. Но как нам, там и им это не мешает любить, желать, ненавидеть, они могут прикасаться к другим людям, чтобы целовать их или убивать… Вот так эти мои творения в своей вечной железной неподвижности предаются страстям и желаниям, изменяют, тоскуют, мечтают… [Лем 2003, 359].
Весь мир заключен в них самих, сами же они не являются человеческими существами в привычном для нас смысле, хотя феноменология их сознания вполне соответствует человеческой с одним лишь различием: железные ящики мыслят и переживают свою телесность за счет подключения к специальному барабану, источнику их судеб. Гуманная мысль противится этому научному изобретению, полагая бесчеловечным создание подобных искусственных людей. Но, быть может, они в действительности превосходят человека, того человека, которого называл «великим чудом, живым существом, действительно достойным восхищения» в далеком XV в. Пико делла Мирандола?
– В этих ящиках находятся самые совершенные электронные мозги, какие когда-либо существовали. Знаете, в чем состоит их совершенство?
– Нет, – честно ответил я.
– В том, что они ничему не служат, абсолютно ни к чему не пригодны, бесполезны… Словом, что это воплощенные мной в реальность, облеченные в материю монады Лейбница... [Лем 2003, 354].
Совершенное тело Дориана Грея, не знающее тлена, остающееся вечно молодым; чувствующие и мыслящие мозги без телесной оболочки, созданные профессором Коркораном, – воплощенная в жизнь лейбницианская «монада-дух», абсолютно свободная и замкнутая на саму себя. И в том, и в другом случае разными способами говорится об одном и том же – об обещании бессмертия. Опорой в преодолении ограниченности человеческого существа оказывается либо тело, либо душа, представленная образно как извечная циркуляция сознаний. В обоих случаях драматизм ситуации в нехватке одного из слагаемых уравнения, тела или души, которые в сумме рождают человека. Бессмертное, но неодушевленное тело или же бессмертная душа, лишенная телесности? В первом случае речь идет о существе, не обладающем способностью управлять собой, «зомби». Быть «зомби» значит либо быть фантастическим образом оживленным трупом, либо человеком, утратившим способность управлять собой, не являющимся причиной своих собственных волеизъявлений, одним словом, лишенным души. На первый взгляд, преимущество за бессмертной душой, ее ценностный статус существенно выше бездушного тела. Однако и душа вне связи со своим телом едва ли может стать претендентом на место победителя в этой схватке за жизнь вечную. Действительно, следующим логическим шагом в преодолении двойственной природы человека и вместе с тем реализации идеи бессмертия было бы создание бессмертной сущности, не обладающей живым телом, не обладающей органами чувств, а значит, и полностью изолированной от окружающего мира. Можно было бы ее с полным правом назвать «душой»? Ответом на этот вопрос послужит поучительная история С. Лема о том, как заслуженный профессор сравнительной онтогенетики посвятил сорок восемь лет жизни решению одной проблемы и наконец решил ее: «Мое изобретение – душа» [Лем 2003, 365]. Он создал душу, в существование которой люди верят тысячи лет:
Философы, поэты, основатели религий, священнослужители повторяют всевозможные аргументы в пользу ее существования. Согласно одним верованиям, это некая обособленная от тела нематериальная субстанция, сохраняющая после смерти человека его индивидуальность, согласно другим – такие идеи возникли у мыслителей Востока, – это энтелехия, некое жизненное начало, лишенное индивидуальных, личностных черт. Однако вера в то, что человек не весь исчезает с последним вздохом, что есть в нем нечто, способное преодолеть смерть, много веков оставалась непоколебимой. Мы, живущие сейчас, знаем, что никакой души нет. Существуют лишь сети нервных волокон, в которых происходят определенные процессы, связанные с жизнью. То, что ощущает обладатель такой сети, его бодрствующее сознание, это собственно, и есть душа… Души нет. Это доказано. Существует, однако, потребность в бессмертной душе, жажда вечного бытия, стремление, чтоб личность бесконечно существовала во времени, наперекор бренности и распаду всего остального [Лем 2003, 366].
Эта синтетическая душа, представляющая собой отпечаток сознания жизнеспособного, сознания человека полного сил, в зрелом возрасте, является живой, чувствующей, мыслящей, способной ко сну и яви, к игре фантазии. Эта материальная сущность и есть уникальная, единичная, неповторимая индивидуальная душа конкретного человека.
– Значит, как вы сказали?.. Здесь, в этой коробке, находится некий материальный предмет, так? Который заключает в себе сознание живого человека? А каким же образом он может общаться с окружающим миром? Слышать и…
Я замолчал, потому что на лице Декантора появилась неописуемая усмешка [Лем 2003, 370].
Действительно: какое общение возможно между теми, удел одного из которых – вечность? Что будет слышать, к кому будет обращаться бессмертная душа, когда человечество исчезнет с лица Земли? Когда Земля перестанет существовать? Даровать такое бессмертие – значит наградить человека «…самым ужасным даром из всех возможных, повторяю, самым ужасным, ибо нельзя представить себе ничего худшего, чем быть приговоренным к пустой, одинокой вечности» [Лем 2003, 375].
Всякие рассуждения, приводящие к точке невозврата – нет, не к смерти, к бессмертию, – рискуют обернуться ироническим концом, подобно тому как это произошло в рассказе Р. Шекли «Кое-что задаром». Герой рассказа получил шанс исполнить любые свои желания. Начал он повышать градус своей жизни при помощи долларовых купюр, затем обеспечил себя домом на природе, потом дворцом, одно знакомство с которым заняло у него две недели, затем последовали «…пять миллионов долларов, три функционирующие нефтяные скважины, киностудия, безукоризненное здоровье, еще двадцать пять танцовщиц, бессмертие, спортивный автомобиль и стадо племенного скота» [Шекли 2010, 646–647]. Однако вышло так, что исполнение желаний не было даровым, все блага предоставлялись в кредит. Проценты по выплатам оказались настолько велики, что главному герою, чтобы представить одну лишь возможность рассчитаться с кредитором, потребовалось обратиться к вечности, поскольку ни одной жизни не хватит для того, чтобы компенсировать стоимость удовлетворенных желаний.
– А сколько они мне насчитали за бессмертие? <…>
– Не прикидывайся простачком, приятель. Пора бы уж тебе кое-что сообразить. <…> Ясное дело, этим-то они награждают задаром [Шекли 2010, 651].
Желание обладать бессмертием, как будто это благо равное среди равных, было исполнено: он стал бессмертным задаром и получил в дар «Сизифов труд», в руки кирку для добычи мрамора из каменоломни на тот случай, когда очередному обладателю машины исполнения желаний понадобится очередной мраморный дворец, в действительности, лучше и не сказать:
…люди не жаждут бессмертия… Они просто не хотят умирать. Они хотят жить… Хотят чувствовать землю под ногами, видеть облака над головой, любить других людей, быть с ними и думать о них. И ничего больше [Лем 2003, 375].
Вечно молодое и красивое тело Дориана Грея, над которым не властно время, мыслящие и чувствующие железные ящики профессора Коркорана, не знающие о своей бестелесности, или душа жены профессора Декантора, заточенная в кристалл и обреченная на мышление о самой себе в вечности – в этих образах представлены телесные и душевные трансформации, преодолевающие привычную для нас конечность и ограниченность человеческих возможностей. Сила художественного воображения не только дает шанс заглянуть в гипотетическое будущее человечества, но и позволяет дистанцироваться и иначе осмыслить глубинную составляющую западноевропейского сознания, антитезу душа – тело. Телом, подверженным старению, пренебрегали, плоть, источник физических страданий и страстей, укрощали, только душа казалась уготованной для жизни вечной, пусть даже и облаченная в новую плоть, согласно христианской идее воскрешения.
Большим шагом вперед в исследовании человеческой природы и вместе с тем пересмотром отношения к телесности, к возможностям человеческого тела стал известный Загорский эксперимент со слепоглухонемыми детьми под руководством И.А. Соколянского и А.И. Мещерякова. Ребенок, от рождения не имеющий связи с миром посредством двух ведущих способностей чувственного созерцания – зрения и слуха, обречен: «Слепоглухонемой ребенок отделен от окружающих его вещей и от общества сплошной стеной молчания и темноты. Все свои представления о внешнем мире он может получить лишь посредством осязания. Лишенные обычных способов общения с людьми, обреченные на полное одиночество, слепоглухонемые дети умственно не развиваются. Даже их мимика не адекватна состоянию: они не умеют по-человечески ни улыбаться, ни хмуриться. Энергия этих детей может находить выход в нецеленаправленных движениях. Все это производит впечатление глубокой мозговой патологии» [Мещеряков 1970, 80]. Психика такого ребенка самостоятельно развиться не может. Если использовать метафоры «души» и «тела» для описания этого феномена, можно было бы сказать, что тело у ребенка есть, а души нет. Процесс очеловечивания – долгий и тяжелый путь как для ребенка, который на первых порах не испытывает никакого интереса к окружающему миру, так и для педагога, поскольку ему приходится работать с неконтролируемыми и беспорядочными движениями тела. Формирование психической деятельности начинается через прикосновение. Слепоглухонемой ребенок знакомится с окружающими его предметами при помощи воспитателя, который и обучает его простейшим навыкам самообслуживания.
Работа со слепоглухонемыми в европейских странах и в США в XIX в. – первой половине XX в. проходила иначе: развитие психики слепоглухонемого ребенка рассматривалось как «высвобождение внутреннего содержания» [Мещеряков 1970, 82]. Исключительно человеческой способностью, отличающей человека от животного, считалась способность к речи, поэтому в основе методики работы со слепоглухонемыми лежал метод Тадома[3]: «В 1931 г. в США при Перкинской школе для слепых было открыто отделение для обучения слепоглухонемых. В этом учреждении обучение велось исключительно “методом Тадома”, т.е. методом устной речи. Если ребенок не мог научиться устной речи в течение определенного времени, его считали необучаемым и отчисляли из школы. Неудивительно поэтому, что в 1953 г. там осталось всего четверо учеников. Обучение языку методом Тадома строится на основе восприятия устной речи учителя пальцами учащегося, приложенными к губам и гортани говорящего. Нынешний директор Перкинской школы доктор Вотерхауз рассказывал, что для усвоения и произношения одного только слова “молоко” учительница слепоглухонемого ребенка повторяла это слово более десяти тысяч раз. Естественно, трудно ожидать быстрого усвоения языка и накопления знаний при таком методе обучения» [Мещеряков 1970, 84]. Более эффективным методом работы со слепоглухонемыми, дающим стабильный положительный результат, стал деятельностный подход Соколянского – Мещерякова: «Факты, зафиксированные исследованиями Соколянского – Мещерякова, свидетельствуют в пользу того взгляда, что все без исключения физиологические механизмы, связанные с обеспечением специфически человеческой психики, возникают путем “интериоризации” внешних, предметно-обусловленных действий индивида в социально организованной среде и что поэтому самая их форма запрограммирована не внутри, а вне тела индивида, в его “неорганическом теле”, как назвала когда-то философия предметное тело цивилизации, т.е. всю ту систему вещей и форм общения, которая представляет собой не естественно-природную, а социально-историческую предпосылку человеческого развития» [Ильенков 1970, 89].
Участники эксперимента, некоторые тотально слепоглухие (от рождения), смогли достичь высокого уровня интеллектуального развития, овладеть речью, хотя ее звучание больше напоминало автоматическую речь без интонации и свойственной устной речи спонтанности, но тем не менее это была человеческая речь. Слепоглухонемой от рождения, никогда не слышавший живую речь, способен говорить, никогда не видевший деревенских изб – лепить их из пластилина, усваивать не только программу средней школы, но и получить высшее образование, – эти успехи в советской психологии и педагогике по праву могут быть названы чудом создания человека. Загорский эксперимент свидетельствует также и о том, что формулировка антропологической проблемы в дуалистическом ключе через противопоставление души и тела, установление связей и отношений между двумя различными порядками – психическим и телесным – весьма упрощена. В дихотомии душа – тело несправедливо недооценивается значение тела как одной из двух конститутив человеческого как такового. «Тело» и «душа» как смыслообразующие константы в поиске формулы «человеческого» более подвижны и пластичны, больше поддаются смещениям, отклонениям в ту или иную сторону, чем это обыкновенно представлялось.
Казалось бы, именно преодоление разрыва между материальным и духовным есть главная, скрытая и явная доминанта человеческого существования. Именно слияние материального и духовного и их представителей в человеке – «души» и «тела» – делает достижимым любое человеческое желание, сопротивление материи исчезает, свобода, бессмертие, абсолютная творческая мощь становятся реальностью. В европейской рационализированной культуре можно обнаружить модели полного слияния двух начал в человеке (достаточно вспомнить проект «оживших богов» эпохи Возрождения, грезы Ницше о появлении сверхчеловека, образы супермена в современной массовой художественной культуре). Существуют и многочисленные контраргументы. Если обратиться к современной интеллектуальной литературной традиции, то рассказ В. Пелевина «Фокус-группа» и роман английского писателя Дж. Барнса «История мира в 10 с половиной главах» есть демонстрация двух вариантов такого тождества и его последствий. В рассказе Пелевина семеро усопших оказываются в условном месте, где, как им кажется, наконец исполнятся все их желания, поскольку «после смерти каждый человек делается всемогущ», любой «дрейф ума» тут же воплощается в реальность. Пытаясь артикулировать самые заветные желания, реализация которых и должна составлять то идеальное состояние, которое называется счастьем, участники «фокус-группы» приходят к выводу, что невозможно свести счастье к исполнению какого-то одного желания: «…мы не так примитивны… после чего-то одного всегда хочется чего-то другого… Если как следует подумать, список можно продолжить до бесконечности. Я только одну еду могу полдня перечислять» [Пелевин 2003, 324–325]. Решено, что полное и счастье может быть достигнуто только тогда, когда человек получит «все и сразу». Все пространственные и временные ограничения на исполнение желаний сняты. «Душа» – сознание земного, ограниченного, телесного человека полностью сливается с телом, но в этот момент жизненный проект каждого из участников фокус-группы обнаруживает свою ограниченность, конечность. Человек остался в рамках своей телесности. Все, что было невозможно в обычных условиях, свершилось в один миг: все возможности разом исчерпаны, все желания реализованы. Небытие, полное исчезновение – логичный итог исполнения желаний всех и сразу, как следствия слияния «души» и «тела». Об этом не предупредил участников коварный модератор – «Светящееся существо».
Дж. Барнс рассматривает иную версию послеземного существования как исполнения желаний. Здесь все осуществляется последовательно: счастливчик получает возможность постепенно удовлетворить все свои гастрономические склонности, развить все таланты, полностью реализовать тягу к перемене мест. В данном случае человек получает «все», но «не сразу». После растянутого на тысячелетия процесса исполнения желаний с героем происходит то же, что и с участниками пелевинской фокус-группы: погружение в небытие. Фактически душа и тело как символы возможного и действительного, свободного и необходимого в человеческой жизни не меняют своего качества – это все те же характеристики земного человеческого существования в его разорванности, противоречивости, несовершенстве, но избавленные от количественных ограничений.
В отличие от неосмотрительности современного сознания, архаические культуры шли по иному пути. В них существовали разнообразные способы преодоления дуализма души и тела, который, в свою очередь, скрывал в себе основную оппозицию человеческого существования – оппозицию бытия и небытия, жизни и смерти. Один способ можно назвать «онтологосемиотическим», учитывая непосредственный характер связи знака и обозначаемого в мифологическом сознании. Никто не видел ужасную Медузу Горгону, один взгляд на нее лишал человека жизни. Хитроумный Персей смог отсечь Медузе голову, не глядя ей в лицо. Персей смотрел на отражение Медузы в своем щите. Персей видел не сам ужас, смерть, небытие; он видел свой взгляд на ужас; он совершил обходной маневр, найдя для небытия заместителя, способного закрыть нечеловеческое от человеческого взгляда и одновременно представить это нечеловеческое. Древний миф заключает в себе универсальный механизм использования знакового отношения как «бриколажа». К. Леви-Строс считал метод бриколажа, обходного пути универсальной знаковой техникой, позволяющей с помощью бесконечных трансформаций как операций заместительства увидеть земные отражения бытия и небытия, остановить безрассудное стремление человека выйти за рамки конечного. Непримиримая оппозиция жизнь – смерть, которая стоит за противопоставлением души и тела, замещается другой, представляющей ее в более привычной и «преодолимой» форме: «земледелие – война». Между ними появляются трикстер (медиатор, посредник) и «охота». Охота ведет к смерти одних живых существ, но направлена на поддержание жизни других. Противоречие смещается в сторону и ослабляется еще больше, когда целиком перемещается в сферу охоты: «травоядные (не охотятся) – хищники (убивают, охотясь)». Посредником оказываются «животные, питающиеся падалью» (койот, ворон). С одной стороны, они едят животную пищу, с другой, не убивают [Леви-Строс 1983, 201].Техника бриколажа позволяет найти пути к жизненно значимому разрешению множества мировоззренческих оппозиций и в современной культуре. Причем такой бриколаж может как смягчить и «увести в сторону» оппозицию, так и усилить ее остроту.
Другой способ снятия непримиримых противоречий между душой и телом можно назвать «физиоонтологическим». Душа и тело не две части, две половинки человека, механическим образом соединенные или же слитые до неразличимости. Оппозиция души и тела существует в некоем континууме, она как бы бесконечно «растягивает» человеческое бытие, развертывая постоянно меняющийся спектр проблем. Человек постоянно движется от проблемы к проблеме, никогда не получая окончательного решения, но сохраняя при этом ощущение цельности и осмысленности существования. К. Леви-Строс показал, что мифологическая Вселенная гармонична и законченна. Мифологическое мышление по-своему экономно: число его элементов ограничено, чувственно-образный компонент в них не отделен от интеллектуального, эти элементы могут выступать как в функции материала, так и инструмента. Поэтому для него характерны бесконечные смысловые трансформации, «оборачивания»: означающее и означаемое меняются местами. Понятие души предполагает как жизненную силу, так и особое духовное начало. Душа не просто связана с телом, но определенная парциальная душа ведает каждым органом. В «Структурной антропологии» Леви-Строс описывает, как сложные взаимоотношения души и тела в мифологии южноамериканских индейцев позволяют решить и проблему выхода из болезни, и проблему восстановления целостной картины мира и гармонизации сознания. Болезнь – это разрушение гармонии парциальных душ, это потеря какой-то из душ («пурбы»), это утрата больной связи с некими психическими энергиями («душами»), которые начинают действовать независимо от человека. Но болезнь для мифологического сознания – это не только «личная» проблема больного. Эта проблема имеет «космическое» измерение, поскольку болезнь десимволизирует мир, разрушает его целостность. Для современного человека, пишет Леви-Строс, болезнь – это порождение воздействия внешнего мира; для архаического же сознания болезнь – это драма целиком «внутренняя». Это невозможность больного восстановить символические связи Вселенной, внезапная утрата языка. Сознание больного страдает «от недостатка означаемого» [Леви-Строс 1983, 161], онтологическое переживание разрушается, сознание отказывается связать себя с болью, болезнью и смертью. Этот разрыв и осознается как похищение души, которая перестает быть центром инициативы, контроля, «жизни» больного, его самоидентификации. Лечение проводит колдун, для которого характерен «избыток означающего». С его помощью больному возвращается жизненное ощущение целостности мира в его символической явленности. Колдун демонстрирует вписанность больного органа в порядок Вселенной, он как бы многократно увеличивает больной орган и персонифицирует процесс борьбы организма с болезнью: в больном органе ползают аллигатор, осьминог с цепкими щупальцами, там сидят на цепи с оскаленной пастью черный тигр, красный зверь [Леви-Строс 1983, 174]. Сам колдун также оказывается как бы внутри больного, сражаясь с силами болезни. Не бессильная страдающая душа противостоит телу, и не немощное тело – миру. Нет тела без души (пусть плененной, затерявшейся) и души без тела. Больной имеет дело с «телом-душой», внутри которого постоянно меняются соотношения. Человек мифа не сталкивается с небытием, он постоянно подставляет на место противостоящей реальности какой-то модус «тела-души», модус собственного существования как «существования-в-теле». Драма мифологического сознания – это не драма столкновения рационального с иррациональным, логоса с хаосом, свободы с необходимостью – это драма означивания, поиска релевантных означающего и означаемого, проистекающего в «теле-душе» – противоречивом пульсирующем единстве, которое то растягивается до масштабов Вселенной, то сжимается до отдельного человеческого органа. Дифференциация отдельных ощущений относительна. В хантском фольклоре принято выражение «смотрит-слышит». Сливаться воедино могут ощущение, орган, член тела: «головы-глаза закрыли, спать легли». Не дифференцируются психическая функция и мимика: «память-улыбка» [Ханты 1995]. Временами то тело сливается с душой в каком-либо органе, то душа концентрируется в какой-то точке тела, противопоставляя себя другим его частям. Человек в таком мире всегда находится в рамках знаемого, осмысленного; он опирается то на одну, то на другую сторону оппозиционного отношения как точку опоры в данный момент. Рассмотрение противоречивости, оппозиционности, пронизывающей всю человеческую культуру, как универсального средства означивания до ХХ в. встречается нечасто.
Представления о «теле-душе» как универсальном отношении означивания явно ослабевают с усилением рефлексивного момента в человеческой культуре. «Душа» уже не может плавно концентрироваться в той или иной точке тела, жестко дифференцированного в сознании на части-органы. «Тело» как инструмент означивания превращается в объект маркировки. Тело не может стать Вселенной, а Вселенная не умещается в теле. Процедура уменьшения-увеличения тела, преодоления границ между телом и душой становится невозможной. Правда, в повседневности, в «немом опыте тела» человек выходит за рамки своего ограниченного в пространстве и времени физического тела. Позы, жесты, движения вписывают индивида в социальный космос. C помощью телесных практик можно выразить как формы социального единения, так и социального неравенства, отношения господства-подчинения. Гендерные различия, особенности молодежных субкультур, национальные образы мира воплощаются в походке, тембре голоса, жестикуляции. Поклоны, приветствия, мимика, даже сексуальные контакты хотя и осуществляются в телесной форме, но содержание их культурно обусловлено. Собственно, предпосылкой выхода человека за рамки собственного тела является вся человеческая культура – своеобразный протез, «неорганическое тело». Тело оказывается посредником между познающим, чувствующим, самосознающим, уникальным и бессмертным Я («душой») и миром. Тело как бы «насыщается» культурными смыслами (орел видит дальше, но человек с его слабым зрением видит больше. Глаз человека – уже не просто орган тела, но инструмент видения мира, созданный культурой). Тело, по словам М. Мерло-Понти, сродни трости слепого, которая как бы воссоздает для него весь мир. Уместно вспомнить притчу о слепых, которые пытались описать слона, используя понятные им культурные стереотипы. Такое феноменальное тело не тождественно телу физическому, оно есть комплекс впечатлений, действий как ответных реакций на вызовы внешнего мира. В таком феноменальном теле бессмысленно разделение на духовные и материальные компоненты. Загорский эксперимент продемонстрировал возможность опоры на опыт тела, понимаемый как предметная деятельность.
Так что же: образ души безвозвратно уходит из нашего сознания, вытесняется образом деятельного, культурно-структурированного тела? Думается, это не так. Разговор о душе и теле так же нужен современному человеку, как и современникам Франсуа Вийона. Человеческая уникальность, трагическое чувство жизни, сожаление о несвершенном не меньше необходимы человеку, нежели деятельно-преобразующее отношение к жизни, воплощенное в образе тела. Между душой и телом существует не только близость, но и некое напряжение, о полном тождестве нет и речи. Пространство, существующее между «телом» и «душой» – это пространство преодоления, пространство несвершенного, необходимость творческого усилия, это риск, неопределенность, надежда, возможность поражения и победы.
