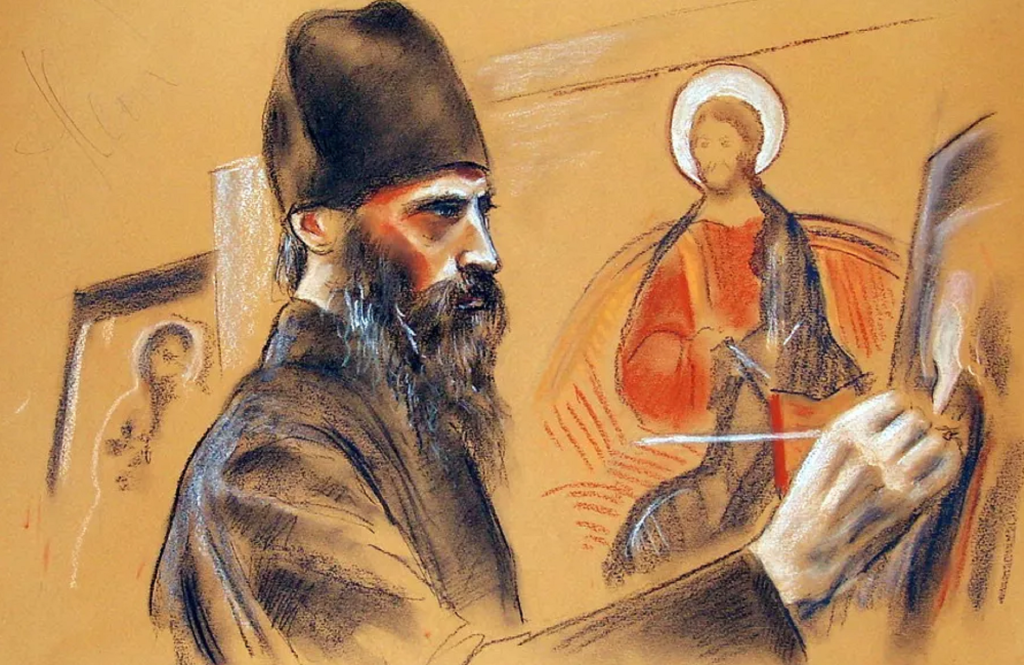
На первый взгляд, странно говорить о потребности оправдывать искусство из любой перспективы, тем более христиански обоснованной. Однако вопрос об онтологических, познавательных и этических достижениях, возможностях и ценности искусства и художественного творчества имеет давнюю историю в европейско-христианском цивилизационном ареале, а его первое концептуальное обоснование обычно связывается с Платоном. Он, особенно в диалоге «Государство», заложил прочные основы утверждений об онтологической и гносеологической недостаточности искусства и художественного творчества, как второстепенных и опосредованных по отношению к источнику существования и истине, то есть к истинной реальности. Он также подчеркнул их этическую неполноту, следствием которой является поощрение и разжигание страстей, ухудшающее способность человека участвовать в бытии и истине и вносящее разлад в социальные отношения и общественный порядок.
Оценка и социальное позиционирование искусства имеет важные последствия для понимания истины, реальности и самого человека в разные эпохи, поэтому исторический обзор оценки искусства и художественного творчества может иметь большое значение для понимания определенных эпох, обществ и культур, прежде всего в смысле основ идейно-ценностной системы, характерной для какого-то общества и культуры в определенный период. Когда говорим об оценивании искусства, мы имеем в виду оценку творческой способности человека производить тварно (материально) сформированные и чувственно познаваемые объекты и события, что, опять же, имеет значение для понимания отношения человека к миру, его роли и смысла в нем и, следовательно, отношений с другими людьми, а также, возможно, для понимания источника или смысла существования человека и его действий в мире.
Исторически христианство как радикальное и явленное божественным откровением изменение в понимании полноты реальности, ее истины и смысла несло собственное отношение к искусству, причем, принимая принципы, образцы и категории античного, прежде всего эллинского мышления, оно также приняло определенные античные предубеждения в отношении искусства, то есть понимание искусства, характерное для одного, сложного и тонкого, но все же предоткровенческого образца мышления. Преобразуя принятые категории в соответствии с откровением и его богословскими и догматическими положениями, христианство в значительной степени освободилось от дохристианского понимания художественного творчества, хотя и с некоторыми открытыми вопросами и недоразумениями, которые все еще сохраняются.
Когда говорим об этой «эмансипации», которую можно также назвать христианизацией культуры и общества, необходимо отметить, что «интеллектуальные усилия ранней Церкви служили гораздо более благородной цели, чем придание концептуальной формы христианской вере»; миссия состояла «в завоевании сердец и умов мужчин и женщин и изменении их жизни»[1]. Христианство с самого начала осмысления и кодификации своей веры не было направлено на создание новых форм абстрактного мышления, но «скорее представляло собой способ проникнуть в глубины Христова таинства», поэтому «христианские мыслители не хотели что-то определять, но их задачей было понять это и объяснить»[2], то есть действенно и художественно осмыслить факты откровения, прежде всего факт и событие явления Бога в человеческом теле, его конкретного и тварного участия в мире и истории.
Поскольку Иисус Христос, согласно христианской вере, «не есть полубог, т. е. некое промежуточное существо ниже Бога и выше человека», а «Он совмещает в личностном единстве всю полноту как божественной, так и человеческой природы», постольку «воплощение Бога понимается <…> как однократное и неповторимое, не допускающее каких-либо перевоплощений в духе языческой, восточной или гностической мистики»[3]. Таким образом, «абсолютная бесконечность Бога оказывается воплощенной <…> в однократном ‘очеловечивании’, так что вездесущие Бога вмещается в пределах одного человеческого тела <...> а Его вечность ― в пределах неповторимого исторического момента»[4]. Это, так же как и вера в творение человека по «образу и подобию» Бога Творца, в христианском понимании человека делает «мистическое достоинство принадлежащим не только человеческому духу, но и телу»[5], которое также рассматривается в эсхатологической перспективе как неотделимая часть всей воскресшей человеческой личности как конкретного психофизического, воскрешением преображенного единства.
Такое понимание, на самом деле, создает основу специфического христианского «оправдания» искусства и творчества. Прежде всего человек создан «из ничего» Богом Творцом, при этом по Его[6] «образу и подобию», и это означает, что он обладает определенным подобием с Богом и имеет возможность определенного «сосуществования» с ним, что говорит о смысле и охвате его послания в мире. Бог уже Адаму дал известную меру ответственности за мир и другие формы жизни и творения и призвал его к сотворчеству, участию в божественном творческом действии в мире. Воплотившись в человеческом теле, Бог сделал возможным, чтобы его божественная природа таинственно присутствовала в тварном теле и таким образом была представляема, что для искусства является самым важным. Икона была богословски защищена тогда, когда защищена законность художественного представления божественного образа как Бога, явившегося во плоти, при этом как представление (потому что оно только таким образом может быть богословски законным), которое не только подражает его человеческому образу, то есть его человеческая природа уже указывает на его божественную идентичность как уникальной богочеловеческой личности[7].
Иными словами, христианское богословие сумело одновременно опытно и дискурсивно обосновать позицию иконы как подражающего представления, созданного человеческим знанием, умением и усилием и фиксированного в материи, которое выражает, опосредует и воплощает божественную, по определению невидимую и человеческими чувствами неуловимую реальность. Также оно сумело указать на роль иконы в общении между человеком и Богом, которое в христианском понимании является не односторонней и внешней субъект-объектной коммуникацией, а участием человека в божественной жизни, то есть реальным участием в вечности, при котором он не жертвует своей личной неповторимостью.
Христианское оправдание творчества происходит от экклезиологического и эсхатологического стремления, чтобы «приобщение к полноте Откровения распространялось на все виды человеческой деятельности», в том числе на творчество, которое «освящается своим причастием к строительству Царствия Божия, которое Церковь осуществляет в мире», в чем и «заключается основной смысл существования мира»[8]. Также «основной смысл существования Церкви в мире в том, чтобы приобщить этот мир к полноте Откровения», причем она не отменяет «специфический характер того, что она воспринимает», а «освящает <...> многообразие [вещей, явлений, форм], вкладывая в них новый смысл и направляя их к истинной цели ― созиданию Царствия Божия»[9]. Поэтому в христианском богословии и духовном искусстве «уже сама икона как таковая представляет собой исповедание и подтверждение веры в Воплощение. В православии истина веры и искусство не разделяются, не противостоят, а взаимно свидетельствуют и подтверждаются», и поэтому икона «признается и как художественный образ, созданный по Божественному дару, переданному художнику, и одновременно как догматический факт веры и теологии Церкви, документ истины и красоты, источник истинного богопознания и познания человека»[10].
Само отношение между Богом и человеком, обозначенное, символизированное и представленное, но также реально опосредованное иконами, основывается на определенном виде иконического отображения и отражения. Это отображение и отражение основывается именно на вере в присутствие божественного образа в человеке при творении и божественном замысле, но также и, благодаря боговоплощению, в назначении человека к благодатному приобретению облика в соответствии с божественным образом Иисуса Христа, второго лица Святой Троицы. Человек является иконой Иисуса Христа с функцией первообраза (архетипа), так же как Иисус Христос является иконой Бога Отца как первообраза, поэтому человек не может ни «принять», ни «увидеть», познать или «иконизировать» Отца, кроме как «через» Сына. Иконическое отношение также подразумевает, что ни одна икона не существует сама по себе и от себя, но своим существованием обязана первообразу, только разными способами и на разных уровнях существования. Иисус Христос есть икона Бога Отца по сущности (существу), но не по ипостаси (личности, «я»), человек же есть икона Христа не по сущности, а по благодати и усыновлению, тогда как рукотворная икона стоит в отношении ипостасного (личностного) сходства (не тождества) с первообразом (Христом, Богородицей или святителями).
Обладая онтологическими отличиями и функциями, иконическое отношение в первую очередь является коммуникативным, то есть отношением общения[11], что происходит от самой реляционной (относительной, относящейся) динамики между Богом и человеком, то есть Бога и тварного мира, так же как и между самими личностями Святой Троицы. Именно потому что основывается на свободе, которая для христиан прежде всего «освобождение от самодовольствия, самопреодоление и помещение существования в Боге»[12], эта программа или код связи между видимым и невидимым, тварным и нетварным, которая устанавливает и саму возможность видеть полноту действительности и говорить о ней, имеет в первую очередь не онтологические и гносеологические, а реляционные характеристики. Они при этом, вследствие высокой степени взаимности, обусловленной в первую очередь иконической природой реляционной динамики, так же как и личностной природой участников реляционного порядка, в основе имеют коммуникационный характер[13].
Таким образом, истина иконического представления — а тем самым и отношения и общения между личностями Бога и человека, но также и внутрибожественного и внутричеловеческого общения, — лежит не в определенном онтологическом субстрате, в абстрактной идее, схеме или образце, а в личности, поскольку «как суть иконы представляет изображенная на ней личность, так суть человека задана его Первообразом»[14]. Тем более, икона представляет собой реальное свидетельство существования невидимого мира, то есть это «средство, через которое христианин приходит к действительному и подлинному существованию оригинала, первообраза, с которым вступает в духовное общение»[15], с важным напоминанием, что верующие не являются просто наблюдателями иконы, а собеседниками в живом и личном общении, то есть в единстве с первообразом, представленным в иконе.
Потому что, если говорим в принципе об отношениях и общении, «мы ищем личность, не какую-то сущность и какую-то природу с которой мы бы общались»[16], тем более что личность как таковая — одновременно «реляционная и коммуникационная действительность»[17]. Если говорим о действительности, то мы должны говорить и об истине как о фундаменте и способе видения этой действительности, а с христианской точки зрения истина «является вопросом не объективных рациональных представлений, а позиции и отношения (личностных) между Богом, человеком и миром»[18]. Отношение человека к истине и сама христианская жизнь как жизнь во Христе являются «постоянной динамикой и постоянным движением от ветхого к новому человеку»[19], то есть постоянным движением к (перво)образу Христа как основе нашего общения с ним. В этом смысле православная вера «почитает святые иконы, которые являются легитимным средством для христиан постигнуть первообраз и создать с ним настоящее отношение»[20].
Коммуникативный характер и функция иконы основывается на позиции, что она являет собой не природу или сущность, то есть ни человеческую, ни божественную природу Иисуса Христа, а его личность, ипостась, особый «образ существования», «обладающий особенными характеристиками, идиомами», тогда как «набор этих идиомов представляет ипостась, то есть образ существования природы»[21]. Написание иконы, таким образом, является описанием не чьей-то природы, а «личных идиом и еще более специфично видимых элементов» представленного образа. Иными словами, «писание — это не описывание, а только указывание», а «икона указывает на лицо, не описывая его сущность»[22]. Поэтому иконописец не есть в истинном смысле слова «создатель иконы <…> ответственный за придание формы абстрактному содержанию», а скорее «принимает формы вещей и рисует их, воспроизводит внешнюю форму, которая является совокупностью личных качеств», и таким образом понятно, что «искусство становится менее креативным в области формы, но расширяет свое направление на область общения»[23]. Икона одновременно представляет собой божественную реальность и становится каналом для ее «вторжения» в человеческую реальность, иконописец фактически объединяет иконическую и мирскую реальности, не делая структуру иконы независимой от наблюдателя, а стремясь к художественной форме, которая «активна и движется к наблюдателю и его реальности»[24]. Икона стремится «привести описанное в настоящее, а не призывает наблюдателя бежать в другую реальность», поэтому она «помогает людям поддержать отношения с реальностью, остаться здесь и столкнуться с трудностями жизни» путем «обогащения их жизнь Царством Божьим»[25].
Еще одна особенность византийской иконографической практики — это непросветленность Христовой одежды, с помощью чего «скрывается сила и мощь Его божественной природы, а раскрывается ненавязчивый личностный способ, точнее, форма общения, в которой она воплотилась и с помощью которой, следовательно, к ней только и можно приблизиться»[26]. Она также подчеркивает первенство (и, безусловно, единство) коммуникативной функции и природы иконы над онтологическим, свидетельствуя о том, что «непреодолимая дистанция между человеческой и божественной природой преодолевается Христовым воплощением и, следовательно, самоуничижением»[27].
Однако остается вопрос, может ли и в какой-то степени такое оправдание иконописи также примениться к искусству как таковому, в первую очередь к тому, чья функция не является богослужебной и не опирается в формальном и содержательном виде на принципы, применимые к богослужебному, то есть священному искусству. В этом смысле необходимо взглянуть на отношение христианства к культуре и человеческому творчеству как таковому, то есть обратить внимание на культурный и социальный аспект христианской деятельности в мире — на христианскую миссию.
Христианство само по себе является религией миссии, то есть каждый христианин приглашен и призван действовать в мире в конкретных временных и пространственных обстоятельствах, в которых он живет, которые в наибольшей степени определяются доминирующими формами культуры и общественных отношений. Христианство подразумевает «движение» к Богу, но также и к миру, к спасению, искуплению и исполнению которого была направлена жертва Христа и, следовательно [должно быть. — Прим. перев.], действие каждого христианина. Христианство с самого начала постоянно участвует в диалоге Евангелия, то есть откровенной Божьей истины и культуры, то есть творческой природы человека и его творений»[28]. Бытие Церкви «проявляется как сообщество людей, собравшихся вокруг Христа и объединенных со Христом», но также является «свидетельством богочеловеческой реальности всему миру»[29].
Подобно тому, как не отвергает тело и тварь, христианство не отвергает и культурные и общественные формы, но стремится к их преображению, освящению и приведению в эсхатологический порядок. Каждый религиозный акт является одновременно общественным и культурным и происходит в рамках межличностных отношений, прагматических и ценностных моделей сообщества, опосредуется и формируется определенными культурными формами. С другой стороны, христианское «послание» богооткровенного происхождения и спасительной цели не должно быть сковано изменяющимися культурными и социальными формами и образованиями, так же как не может быть сведено к ним.
По сути, «Церковь хочет донести послание Евангелия до мира, и это послание касается спасения от смерти как человека, так и всего творения в событии евхаристического соединения тварного и нетварного, или, говоря более сознательно, это касается смысла существования мира и человека»[30]. Таким образом, «Священное Писание является свидетельством интерпретации событий спасения, причем экзистенциальные рамки слушателей не должны быть потеряны из виду», что означает «совокупность человека и его отношения к тому, что его окружает, снаружи и внутри, что подразумевает диалектическую, не обязательно прогрессивную, изменчивость исторического развития и постулирования семиотических рамок мышления и действия»[31].
Смысл действия Церкви в мире состоит в евхаристическом «введении мира в новый режим существования», то есть в изменении образа жизни мира, которое «подразумевает изменение всех структур, поскольку последний враг, то есть смерть, будет упразднена»[32]. Иными словами, «упразднением смерти преобразуются все структуры и модусы экзистенции, поскольку смерть есть причина структурирования ‘старого человека’».[33]
Отношения между Богом, миром и человеком можно описать как постоянные отношения между контекстом и трансцендентностью. Возникает вопрос о возможности и способе божественного действия и проявления в мире. Учитывая, что «вся реальность церковной жизни, с Евхаристией как кульминацией, пронизана контекстуальными образами и символами» и что «в Церкви нет ни одного богослужебного чинопоследования или литургического действия, которое не совершалось бы с использованием какого-нибудь термина или символа»[34], мы можем сказать, что «нет такой связи между человеком и Богом, которая не требовала бы контекста и символов»[35]. При этом контекст «не отождествляется с реальностью истины (которая трансцендентна)», но он также не «совсем чуждый и несвязанный с реальностью Истины, но в некотором смысле открыт для Истины»[36].
Мир культуры, а значит и искусства, не является носителем истины, но и не может быть без возможности отношения к истине, которое достигает высшей точки в эсхатологическом, пасхальном преображении всей твари. В нашем мире для людей и не может быть отношения к истине, которое не опосредовано культурными и общественными формами, и путь к спасению лежит не в их отрицании, а в преображении, и каждый человек несет ответственность не только за собственное, индивидуальное спасение, но и за всех людей и все творение. Истина и знание при этом «связаны с добродетелью» (поэтому имеют и этический аспект, а не только утилитарный), пока «выживает только то общество, в основе которого заложена святость»[37], то есть активное и всеобъемлющее отношение с божественным.
Коммуникация в этом смысле рассматривается как отношение и общение между различными уровнями реальности, носителями и генераторами которых являются персонализированные сущности, то есть личности (Бога, человека и ангела), а также другие формы конкретно-индивидуального существования, такие как животные и даже растения. С другой стороны, в христианском духе есть понимание коммуникации как объединения, вступления в общину, которая наиболее совершенно иконизируется именно литургической, евхаристической общиной как полем спасения; то есть коммуникация — это реальное общение и сосуществование контекста и трансцендентности.
Кстати, вопрос о взаимоотношениях между христианством и культурой «никогда не обсуждается абстрактно, в общей форме», а скорее, когда говорим о культуре, «мы всегда имеем в виду культуру определенную»[38], причем культурная деятельность всегда является частью «фактического человеческого существования и поэтому не может быть исключена из исторического христианского делания»[39]. Культура начинается там, где «духовное содержание ищет себе верную и совершенную форму»[40], следовательно, «христианин призван не бежать от мира и человека, отвергая и проклиная их, но вносить свет Христова учения в земную жизнь и творчески раскрывать дары Святого Духа в [жизненной] ткани»[41].
Христианство, «уникальный культурный переворот»[42], вышло «на историческую сцену в виде общества или общины, как новый социальный порядок или даже новое социальное измерение, т. е. как Церковь»[43]. У первых христиан «корпоративное [общинное] чувство было очень сильно»[44], но они «не отрицали культуру как таковую», а считали своим долгом «относиться критически к любой существующей культурной ситуации и мерить ее мерой Христа». «Христиане являются сынами Вечности, т. е. будущими гражданами Небесного Иерусалима», но они также «призваны трудиться и служить именно в этом мире и в этом веке»[45]. Иными словами, «Церковь и культура находятся друг в друге», и «Царство Божие включает их обе, трансцендируя их [одновременно]»[46]. Действие «в этом веке» подразумевает активное отношение к конкретному пространственному и временнόму контексту, то есть прежде всего к культурным и социальным параметрам и величинам, которые его определяют. Христианин в этих сущностях не ищет критерия окончательной истины и, следовательно, своего спасения и спасения творения, но и не отвергает и не отрицает их, а стремится к их преображению в соответствии со спасительной, то есть евхаристической, целью и смыслом, что и является определением творчества как подлинного отношения христианина к сотворенному миру. Творчество подразумевает ответственность человека перед миром, без которой он не может быть по-настоящему понят или «оправдан», так же как ответственность покоится в богодарованной человеческой свободе, а не в навязывании, рабстве, принуждении или необходимости.
Творчество, безусловно, подразумевает формирующее действие на каком-то материале, на материи, особенно когда речь идет об искусстве, но формирование никогда не является самоцелью, с самого начала в него вписано отношение к материи, которая формируется, к миру как к миметическому контексту формирования, но прежде всего к другим людям. Творчество в первую очередь относится к тем людям, которые создают, к тем, «для» кого создается, и к тем, которые «создаются». В этом смысле творчество в первую очередь касается человеческих отношений и общения, и отношения являются основным объектом и целью преображения, а не тварь или творение как таковые. Каждое преображение происходит в личности и через личность, а значит, через отношение и общение. Такое восприятие отчасти демифологизирует понимание творчества как преображения реальности, основанного на особых человеческих способностях и императиве «овладения» миром и реальностью, выводя их либо из магической, «триумфалистской» парадигмы, с помощью которых хочется определить возможность человека влиять на окружающую его реальность, особенно на фундаментальную, то есть на бытийные основы этой реальности, а не только на ее единичные, изолированные и периферийные аспекты. Такие парадигмы фактически предлагают человеку роль «волхва» по отношению к созданному миру, но оно становится отношением подчинения, а не преображения, что на самом деле является фундаментальной характеристикой человекобожественной перспективы вместо богочеловеческой, основанной на воплощении[47].
Это именно является основой, из которой, например, Николай Бердяев выводит тезис о творчестве как этическом императиве для человека. Помимо этики закона и этики искупления, для этого автора существует третья, самая совершенная ― этика творчества, которая «основывается на творческих дарах человека» и согласно которой «нравственный поступок ― это не исполнение закона и нормы, а творческая новизна в мире»[48]. Другими словами, «человек создан, чтобы стать творцом», и он «призван к творческой работе в мире, он продолжает создание мира», поэтому «творческий акт — это всегда переход от небытия к бытию, то есть творение из ничего», которое есть «творение из свободы»[49]. Творчество ― это всегда «освобождение и преодоление», оно есть «выход, исход, победа»[50] в отношении как самовлюбленности и эгоизма, так и уныния и подавленности, то есть инерции и необходимости падшего мира, в чем и состоит основа этики творчества, которое, как самопреодоление, ведет к преодолению падшего мира, его эсхатологическому преображению[51]. «Человеческая природа в первооснове своей, ― продолжает Бердяев, ― через Абсолютного человека ― Христа уже стала природой Нового Адама и воссоединилась с природой Божественной», поэтому «она не смеет уже чувствовать себя оторванной и уединенной», потому что «разъединенная подавленность сама по себе есть уже грех против Божественного призвания человека», поэтому «только освободившийся от себя как отдельного и оторванного, способен быть творцом и лицом»[52].
Таким образом, творчество воспринимается через отношение и общение человека с Богом, другими людьми и всей тварью, как одна открытость, преодолевающая все препятствия, бремя, уродства, порожденные падением, окаменевшие в «структурах и способах существования»[53] в «мире сем». Если учитывать погружение «мира сего» в смерть, то преобладание его «логики» и преобразование его «структур и способов» как конкретно-исторических проекций и последствий падения одновременно является победой над смертью. Это еще раз подчеркивает этический характер творчества в том смысле, в котором «этика связана с эсхатологической проблемой, проблемой смерти и бессмертия, ада и рая»[54], то есть в перспективе Церкви и Царства на самом деле нет различия между этикой и догматами[55], так же как в этике и онтологии, где «всегда речь идет о динамизме получения и умножения доброго дара в действительности, как и сохранения того, что является нестареющим новым»[56], и где «развитие рассматривается как постоянство вхождения в неисследимые глубины богопознания, что всегда означает реализацию в опытном переживании», и где «все гармонирует в полноте богочеловеческой реализации, в постоянстве собрания всех и всего в опытной реальности веры»[57].
Критерий истинного отношения и общения как творческой и свободной, смысловой и смыслообразующей деятельности, происходящей «через Христа и во Христе»[58] — по сути, это любовь, истинный «канал» и средство преображения и очищения «структур и способов», согласно которым формируются отношения в падшем мире. Именно любовь, «свободная от всякой целесообразности и обусловленности, делает добродетель свободной от всякого страха, ибо страх не позволяет человеку совершенствоваться в любви», а «назначение человека состоит не в недеятельном блаженстве, а в свободе и любви по образу Божию»[59]. Любовь в евангельской и церковной перспективе приобретает характер не просто заповеди, а «богословского основания», исходя из того, что «поскольку любовь Божия проявилась посланием Сына в мир, то тогда первенство Божьей любви к человеку является парадигмой отношений», «любящие Бога обязаны любить своих братьев»[60]. Поскольку «только через Христа мы находимся в общении друг с другом»[61], то это братство «не есть идеал, а божественная реальность», и она «духовна, а не душевна»[62], что представляет собой основу экклезиологической и эсхатологической идентичности христианства.
В этом контексте мы можем рассматривать искусство и художественные достижения как продукты художественного процесса с точки зрения их предметности, с целью поэтического построения тварных (материальных) и чувственно воспринимаемых предметов и событий, которые не могут обладать художественным характером без фактора восприятия, и с точки зрения коммуникативности, когда указанные поэтические величины рассматриваются как средства общения между художниками, зрителями и самим произведением, включая общение со всем культурным контекстом, который можем отнести к произведению или действию искусства. По сути, искусство ― это эстетическое, то есть чувственное и воспринимаемое явление, которое неизбежно имеет реляционный характер и во многом, если не в основном, определяет характер и весь спектр значений произведения искусства или действия, то есть явлений искусства как такового. Искусства не бывает без отношения, которое объединяет в себе целый ряд предметных и рецептивных факторов и которое в своем динамизме и открытости при формировании специфической коммуникативной ситуации как социальной и культурной реальности более точно может быть описано понятием «общения», «коммуникации», а не только «отношения», тем более что реляционная природа художественных величин и их сегментов основывается скорее на явных, чем на неявных структурных и системных порядках. Такой коммуникационный подход к искусству позволяет учитывать различные виды искусства, «традиционные» и «современные», а также различные средства его опосредованности.
Проще говоря, искусство становится восприимчивым (рецептивным) и семантическим (носящим значение) только в коммуникативном отношении, в общении, которое из произведения искусства как продукта поэтического моделирования и эстетико-семантической ауры произведения, объединяющей плоскости текста и контекста, создает относительно автономную сущность с особенностями моделирования мира в целом, то есть структурированную по образцу и модели структурирования реальности[63]. Поэтический и эстетико-рецептивный характер художественного произведения и художественного процесса в этом смысле может быть объединен в понятии художественной коммуникации, которая одновременно объединяет в себе онтологические, познавательные, этические и эстетические возможности художественного произведения[64].
Если мы так смотрим на художественную коммуникацию, коммуникацию через искусство, тогда она подчиняется в основном тем же критериям, что и любой вид общения внутри культурного и социального контекста, в том числе и тот, который не опосредован искусством, то есть художественными действиями и произведениями. Искусство в этом смысле не смеет поддаваться идолопоклонству падшего состояния, выполнять функцию узаконивания и утверждения «структур и способов» существования в состоянии падения, а также отвергать существующие культурные формы, современные или традиционные, но должно участвовать в их преображении, очищении и искуплении, то есть участвовать в том, что является основным смыслом и задачей любого человеческого творчества как смыслообразующей и в своей основе спасательной деятельности.
Поскольку уже было сказано, что критерием человеческого общения, по сути, является любовь, это также верно для общения, опосредованного художественными произведениями. Здесь мы исходим из того, что всякое общение рассматривается в свете личности, как личностное, причем «отношение между личностями основывается на свободной взаимности», поэтому «если одна из двух не может действовать как личность, то ‘я-вещь’ отношение заменяется ‘я-ты’ отношением»[65], в то время как любовь является «подтверждением другого в его конкретности»[66]. Конкретность художественных действий и произведений позволяет не рассматривать отношение в художественном общении как абстрактное. Его носители (полюсы) являются в основе конкретно-единичными существами, формами существования, которые основывают свою конкретность на иконизации, осуществляемой личностным актом творения и личностным характером отношения с трансцендентным источником творения и утешительного действия в мире, что потенциально также верно для нефигуративных или немиметических форм искусства, имея в виду его участие в более широком коммуникативном контексте, который имеет иконические черты, независимо от иконического статуса конкретного произведения искусства или акта[67].
Художественная коммуникация может действенно помочь нам преодолеть идеологическую кодификацию нашего религиозного опыта, в его личной и переживаемой конкретизации, то есть в углублении и культивировании личной духовной жизни, а также в отношении к другим как к истинно познанным и пережитым уникальным и неповторимым индивидам, созданным по образу Божию[68]. Здесь мы можем проследить одну родственную экзистенциальную динамику между художественным творчеством, деланием и восприятием религиозного опыта, потому что, по словам выдающегося современного богослова Томаша Галика (Halík), «и искусство, и религия стремятся через язык символов выразить невыразимое, изобразить неизобразимое», особенно с учетом того, что «символу присущ парадоксальный характер», который «раскрывает тайну, к которой он относится, на которую указывает, одновременно ее скрывая»[69].
При этом, подчеркивает Галик, следует иметь в виду, что «искусство, которое не указывает на тайну, но лениво и дешево остается на поверхности, является простым кичем», так же как религия, которая «выдает исходные символы за истину, которая не способна рассматривать символы как путь в глубину, является полной противоположностью подлинной религии и представляет собой фундаментализм»[70]. И «тот, кто живет на поверхности, живет недостоверной жизнью, в поверхностном развлечении и рабском служении идолам этого мира и делает свою жизнь китчем. Тот, кто способен оторваться от поверхностности и спуститься в глубины, тот живет подлинную жизнь, жизнь в истине; он живет свою жизнь как искусство, создает свою индивидуальность и свою историю как оригинальное произведение искусства. Тем самым он исполняет творческое намерение Бога и отвечает на уникальное дело Бога, которым он был призван из небытия в бытие»[71]. Другими словами, искусство может помочь нам конкретизировать наши духовные переживания и опыт, лучше почувствовать парадоксальность человеческого существования, быть более восприимчивыми к человеческой боли и освободиться от идолопоклонства кому и чему угодно, даже самим себе в падшем состоянии, освободиться от иллюзий, которые омрачают наш опыт восприятия мира, Бога, других людей и самих себя, ведя нас к высокомерию, которое «делает нас слепыми и глухими», в то время как смирение «открывает нам глаза и открывает нам полноту истины»[72].
Искусство, конечно, ничего из этого не делает само по себе, на самом деле все делаем мы в соответствии с нашей Богом дарованной свободой. Искусство не обязательно является идолом, не есть «шум» в нашем отношении к Богу, миру и людям, но потенциально это особый «канал», через который мы преображаемся и тем самым искупаем наши грехи, но только если интегрируем его [искусство. — Прим. перев.] в наш духовный, подвижнический, спасительно-обожествляющий опыт.
Софроний Сахаров пишет: «Каждый из нас влияет на других. И если мы влияем друг на друга в духе Христовой заповеди познания Бога: любить Бога всем своим существом и каждого человека, как свою собственную жизнь, то проблема творения решается. Если человек просто живет в этом духе, он уже входит в творческую энергию Бога безначального. <...> Итак, если я буду говорить слова, которые есть любовь, то этим я уже сотворю дело безначального Бога. Помогая брату победить в себе что-либо плохое, особенно помогая ему в моменты отчаяния, я становлюсь соучастником Божьим в этом деле. Таким образом, вся жизнь превращается в своего рода настоящий акт, который всегда формируется в проникновении чувством присутствия Бога вечного»[73].
Искусство «оправдано» из христианской перспективы настолько, насколько оно участвует в этой общей, синергийной богочеловеческой работе. Его коммуникативная природа, как было показано в работе, имеет решающее значение для такого понимания искусства, которое раскрывает и указывает на его высшие возможности и благодаря которым искусство обладает возможностью захватывать все человеческое познание и опыт, ― и что самое главное, преобразующим способом участвовать в жизни, ― то подлинно творческое и богочеловечески целостное познание, которое объединяет онтологию, гносеологию и этику[74] и которое «на крыльях богочеловеческих добродетелей беспрепятственно преодолевает границы времени и пространства и входит в вечность»[75].
Литература
Аверинцев С. Хришћанство у ХХ веку. Београд: Отачник – Бернар, 2017.
Берђајев Н. Смисао стваралаштва – Покушај оправдања човека. Београд: Логос, 1996.
Берђајев Н. Два схватања хришћанства. Београд: Библос, 2021.
Бичков В. Естетика Отаца Цркве. Београд: Службени гласник – Хришћански
културни центар, 2010.
Бонхефер Д. Заједнички живот. Београд: Иконос, 2020.
Васиљевић М. Вера и живот – Између трансцендентности и контекстуалности. Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2013.
Вержели Б. Искушење човекобога. Крагујевац: Каленић, 2019.
Вилкен Р. Л. Дух ранохришћанске мисли – Тражење лица Божијег, Крагујевац: Каленић, 2017.
Голијанин В. Мисија и култура – Теологија инкултурације и њено место у православном мисионарском богословљу, Фоча: Православни богословски факултет, 2021.
Ђаковац А. Небески Јерусалим и секуларно царство. Београд: Хришћански културни центар, 2018.
Ђурић Ж. Икона као средство визуелне комуникације // Теолошки погледи, бр. 1, Београд; Свети архијерејски синод СПЦ, 2012. С. 41–68.
Ђурић Ж. Евгеније Трубецкој – Живопис као будуће Царство Божије око трпезе Господње // Живопис, бр. 9. Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију, 2020. С. 24–36.
Зизјулас Ј. Догматске теме. Нови Сад: Беседе, 2001.
Иљин И. Основе хришћанске културе. Београд: Отачник, 2014.
Јанарас Х. Личност и ерос. Нови Сад: Беседа, 2009.
Јевтић А. Трагање за Христом. Београд: Храст, 1989.
Јевтић А. 1200 година Седмог васељенског сабора // Православље и уметност, приредио Србуљ, Ј. Београд: Неа ника, 2004. С. 3–15.
Јевтић А. Философија и теологија. Требиње – Врњачка Бања: Манастир Тврдош – Братство Светог Симеона Мироточивог, 2004.
Кирејевски И. Ка целовитом уму – религијскофилософски списи. Београд: Библос – Отачник, 2021.
Коларић В. Моделизација света у Аристотеловој поетици и у структуралној семиотици Јурија Лотмана // Зборник Матице српске за славистику, бр. 78. Нови Сад: Матица српска, 2010. С. 101–118.
Коларић В. Слика и страст: испитивање филма // Култура, бр. 142. Београд: Завод за проучавање културног развитка. 2014. С. 52–77.
Коларић В. Хришћанство и филм. Београд: Отачник, 2017.
Коларић В. Хришћанство и уметност. Београд: Библос, 2021.
Коларић В. Бити другоме утеха и охрабрење – есеји о хришћанству и култури. Београд: Библос, 2023.
Коларић В. Естетика // Лексикон библијске херменеутике, приредио Кубат, Р., Београд: Службени гласник – Филон, 2023. С. 218–220.
Кордис Ј. Икона и њено место у православном религиозном животу // Теологија иконе и црквено стваралаштво, приредио Миловић Н. Крагујевац: Каленић, 2011. С. 47–64.
Митровић Т. Кад су људи били иконе – О утицају визуелних уметности на однос према телесности у (раном) средњем веку, Живопис, бр. 9, Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију, 2020. С. 147–216.
Митровић Т. Од иконизације тела до наликовања Христу – траговима процеса децентрализације иконичког поретка у периоду касне Антике // Култура, бр. 167, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2020. С. 179–197.
Митровић Т. Икона и тело – О утицају визуелних уметности на понашање и
однос према телесности у средњем веку, Београд – Шибеник: Истина, 2022.
Митровић Т. Основе живописања, Београд: Задужбина светог манастира Хиландара и Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију, 2022.
Нелас П. Обожење у Христу, Србиње – Београд – Ваљево: Хришћанска мисао, 2001.
Поповић Ј. Пут Богопознања. Ваљево – Београд: Манастир Ћелије, 1999.
Поповић Ј. Богоносни Христослов. Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2007,
Поповић Ј. Човек и Богочовек. Ваљево: Манастир Ћелије, 2018.
Пурић Ј. Људско лице Бога. Београд: Службени гласник, 2010.
Ристановић Н. Белешке о стваралаштву (покушај богословског истраживања) // Живопис, бр. 10. Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију, 2021. С. 47– 61.
Романидис Ј. Прародитељски грех. Нови Сад: Беседа, 2001.
Сахаров Н. Кеносис // Живопис, бр. 2, Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију. 2008. С. 85–110.
Сахаров С. Писма у Русију. Београд – Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2017.
Стојановић Д. Естетски израз дијалошке истине // Живопис, бр. 11, Београд, Академија СПЦ за уметност и консервацију, 2022. С. 79–90.
Стојановић Љ. Хришћани у свету. Београд: Хришћански културни центар, 2006.
Таталовић В. Основи егзегезе списа Светог Јована Богослова. Београд: Православни Богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, Библијски институт, 2019.
Tillich P. Teologija kulture. Rijeka – Sarajevo: Ex libris-Synopsis, 2009.
Тилих П. Библијска религија и потрага за крајњом стварношћу. Београд: Библос, 2021.
Трубецкој Ј. Умозрење у бојама и други огледи. Београд: Отачник, 2017.
Успенски Л. Теологија иконе. Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2000.
Флоренски П. Мисао и језик. Београд: Логос, 2018.
Флоровски Г. Хришћанство и култура. Београд: Логос, 2005.
Halik T. Vrijeme praznih crkvi – Od krize prema produbljenju vjere, Rijeka: Ex libris, 2021.
Цветковић В. Јустин Поповић – синтеза традиције и иновације. Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, 2021.
Шијаковић Б. Пролегомена за византијску философиjу и питање хришћанске философије. Београд – Никшић: Гномон – Институт за српску културу, 2022.
[1] Вилкен Р. Л. Дух ранохришћанске мисли – Тражење лица Божијег. Крагујевац: Каленић. 2017. С. XIV.
[2] Там же. С. 3.
[3] Аверинцев С. Хришћанство у ХХ веку. Београд: Отачник – Бернар, 2017. С. 13. ― Прим. перев.: Эта и следующие две сноски относятся к одной и той же теме: Христианство, Характеристика вероучения в книге: София-Логос, словарь.
[4] Там же. С. 14.
[5] Там же. С. 15.
[6] Во всей работе сохранена авторская орфография. ― Прим. перев.
[7] О значимости «иконичного порядка» для христианства, и особенно в отношении к телесности см.: Митровић, Т. Кад су људи били иконе – О утицају визуелних уметности на однос према телесности у (раном) средњем веку, Живопис, бр. 9, Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију. 2020. С. 147–216. См. и: Митровић Т. (2020) в: Култура, бр. 167, Београд: Завод за проучавање културног развитка. С. 179–197, и Митровић Т. Икона и тело – О утицају визуелних уметности на понашање и однос према телесности у средњем веку, Београд – Шибеник: Истина. 2020.
[8] Успенски Л. Теологија иконе. Света Гора Атонска: Манастир Хиландар. С. 52.
[9] Там же. С. 52.
[10] Јевтић А. 1200 година Седмог васељенског сабора // Православље и уметност, приредио Србуљ, Ј., Београд: Неаника, 2004. С. 14.
[11] В работе не будем проводить различия между терминами «общение» и «коммуникация», как это делает, например, Николай Бердяев, а будем использовать их как синонимы.
[12] Шијаковић Б. Пролегомена за византијску философију и питање хришћанске философије. Београд ‒ Никшић: Гномон ‒ Институт за српску културу, 2022. С. 48.
[13] Об иконе с точки зрения визуальной коммуникации см.: Ђурић Ж. Икона као средство визуелне комуникације, у: Теолошки погледи, бр. 1, Београд; Свети архијерејски синод СПЦ. 2012. С. 41‒ 68.
[14] Нелас П. Обожење у Христу. Србиње ‒ Београд ‒ Ваљево: Хришћанска мисао, 2001. С. 32.
[15] Пурић Ј. Људско лице Бога. Београд: Службени гласник, 2010. С. 106.
[16] Коларић В. Слика и страст: испитивање филма, у: Култура, бр. 142, Београд: Завод за проучавање културног развитка, с. 60. То же в: Коларић В. Хришћанство и филм, Београд: Отачник ‒ Бернар, 2017. С. 36.
[17] Јевтић А. Философија и теологијаю. Требиње ‒ Врњачка Бања: Манастир Тврдош ‒ Братство Светог Симеона Мироточивог, 2017. С. 196.
[18] Зизјулас Ј. Догматске теме. Нови Сад: Беседа, 2001. С. 196.
[19] Јевтић А. Трагање за Христом. Београд: Храст. С. 83.
[20] Кордис Ј. Икона и њено место у православном религиозном животу // Теологија иконе и црквено стваралаштво, приредио Миловић, Н., Крагујевац: Каленић, 2011. С. 49.
[21] Там же. С. 51.
[22] Там же.
[23] Там же. С. 52.
[24] Там же. С. 59.
[25] Там же. С. 61.
[26] Митровић Т. Основе живописања. Броград: Задужбина светог манастира Хиландара и Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију. 2022. С. 192. О понятии кенозиса (самоунижения) смотри в: Сахаров Н. Кеносис // Живопис, бр. 2, Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију. 2008. С. 85‒110. — Здесь нужны 2 комментария: а) Христос одет в темное только на некоторых иконах, и мозаиках, б) под «приподой» должна иметься в виду не Природа, а божественная сторона Христа, т.е. Христос как Бог. — Прим. перев.
[27] Там же. С. 193.
[28] Голијанин В. Мисија и култура ‒ Теологија инкултурације и њено место у православном мисионарском богословљу, Фоча: Православни богословски факултет. 2021. С. 11.
[29] Там же.
[30] Ђаковац А. Небески Јерусалим и секуларно царство. Београд: Хришћански културни центар, 2018. С. 49.
[31] Там же. С. 50.
[32] Там же. С. 89.
[33] Там же.
[34] Васиљевић М. Вера и живот ‒ Између трансцендентности и контекстуалности. Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2013. С. 21.
[35] Там же. С. 23.
[36] Там же. С. 22.
[37] Шијаковић Б. Цит. соч. С. 10.
[38] Флоровски Г. Хришћанство и култура. Београд: Логос, 2005. С. 17.
[39] Там же. С. 21.
[40] Иљин И. Основе хришћанске културе. Београд: Отачник, 2014. С. 19.
[41] Там же. С. 20.
[42] Шијаковић Б. Цит. соч. С. 55.
[43] Флоровски Г. Цит. соч. С. 21.
[44] Там же. С. 21.
[45] Там же. С. 25.
[46] Tillich P. Teologija kulture, Rijeka ‒ Sarajevo: Ex libris ‒ Synopsis, 2009. Р. 49. — В русском изд.: Тиллих П. Избранное. Теология культуры. Центр гуманитарных инициатив. М.; СПб., 2015. С. 81 (прим. перев.).
[47] «Ипостасное соединение человеческой природы с Божественной в лице Иисуса Христа приводит к уверенности, что природа человеческая достигает своей окончательной ипостаси только в Богочеловеке, что это — последняя, заключительная стадия природы человеческой. Со Христом вознесенным — Вознесение человека, вечное присутствие в Святой Троице, становление тройственным и осмысление человеческого, последнее оправдание человека в ипостасном единстве с Богочеловеком», — пишет Иустин Попович в: Поповић Ј. Човек и Богочовек. Ваљево: Манастир Ћелије, 2018. С. 200 [наш перевод, — прим. перев.]. О понятиях богочеловеческого и человекобожественного видеть и: Цветковић В. Јустин Поповић – синтеза традиције и иновације. Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, 2021. С. 171–186, и Вержели Б. Искушење човекобога. Крагујевац: Каленић, 2019. О иконописи в контексте преодоления состояния падения, отмеченного первенством человекобожества над богочеловечеством, также сказано следующее: «Самое главное в иконе — это радость окончательной победы Богочеловека над зверочеловеком, но для этой радости должно подготовиться подвигом [...] Нельзя рисовать по живой модели, потому что икона — не портрет, а первообраз будущего храмового человечества. Такое человечество мы пока не видим, а только ожидаем, и икона может послужить как его символическое изображение» — Ђурић Ж. Евгеније Трубецкој – Живопис као будуће Царство Божије око трпезе Господње // Живопис, бр. 9, Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију, 2020. С. 30. Видети и: Трубецкој Е. Умозрење у бојама и други огледи. Београд: Отачник, 2017.
[48] Берђајев Н. Два схватања хришћанства. Београд: Библос, 2021. С. 157. — Наш перевод, — прим. перев. Мы утвердили, что книга эта является сборником, содержащим не только тексты Н. Б.; конкретное место принадлежит тексту: Евдокимов П. Бердяев — философ восьмого дня.
[49] Там же. С. 152.
[50] Берђајев Н. Смисао стваралаштва ‒ покушај оправдања човека. Београд: Логос, 1996. С. 6.
[51] Это указывает на связь творчества и аскетизма, с тем что «аскетическая культура не обязательно ведет к творчеству, потому что аскетизм — это амбивалентное стремление. Творчество также зависит от желания раскрыть потенциал того, что является самой сутью творчества, а именно преображение. Плод преображения — это не только аскетическая трезвость, но и аскетического выражения [...] Подвижничество покаяния неотделимо от христианства, но также от творчества, и эта неотделимость свидетельствует о том, что аскетический подвиг является средством, а не целью. [...] Аскетизмом покаяния создается новый человек, который становится способным к свободной творческой деятельности создания нового. При этом, само творчество не менее духовно, чем аскетизм» — Ристановић Н. Белешке о стваралаштву (покушај богословског истраживања) // Живопис, бр. 10. Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију, 2021. С. 51. См. также: Флоренски П. Мисао и језик. Београд: Логос, 2018. С. 18.
[52] Берђајев Н. Смисао стваралаштва ‒ покушај оправдања човека. Београд: Логос, 1996. С. 7.
[53] Ђаковац А. Цит. соч. С. . 89.
[54] Берђајев Н. Два схватања хришћанства. Београд: Библос, 2021. С. 157. — См. сноску 48, прим. перев.
[55] См.: Јевтић А. Трагање за Христом. Београд: Храст, 1989. С. 176‒195.
[56] Стојановић Љ. Хришћани у свету. Београд: Хришћански културни центар, 2006. С. 230.
[57] Там же. С. 230.
[58] Бонхефер Д. Заједнички живот. Београд, Иконос, 2020. С. 11.
[59] Романидис Ј. Прародитељски грех. Нови Сад: Беседа, 2001. С. 170.
[60] Таталовић В. Основи егзегезе списа Светог Јована Богослова. Београд: Православни Богословски факултет, Инситут за теолошка истраживања, 2019. С. 185.
[61] Бонхефер Д. Цит. соч. С. 26.
[62] Там же. С. 15.
[63] О понятии моделизации мира см. в: Коларић В. Моделизација света у Аристотеловој поетици и у структуралној семиотици Јурија Лотмана // Зборник Матице српске за славистику, бр. 78. Нови Сад: Матица српска, 2010. С 101–118.
[64] Об эстетике из христианской перспективы см.: Коларић В. Естетика // Лексикон библијске херменеутике, приредио Кубат, Р. Београд: Службени гласник‒Филон, 2023. С. 218–220 и Коларић В. Хришћанство и уметност. Београд, Библос, 2021. С. 73–75.
[65] Тилих П. Библијска религија и потрага за крајњом стварношћу. Београд: Библос, 2021. С. 43.
[66] Там же. С. 67.
[67] «Художник не может пренебрегать личным отношением к произведению, если он хочет, чтобы произведение преодолело безличность и невозможность диалога художественного произведения с наблюдателем. Преодоление безличности достигается личностным отношением автора к произведению, посредством которого наблюдатель своим подходом также осуществляет личностное отношение» ― Стојановић Д. Естетски израз дијалошке истине // Живопис, бр. 11, Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију, 2022. С. 80. См. и: Јанарас Х. Личност и ерос. Нови Сад Беседа, 2009. С. 273 и Бичков В. Естетика отаца Цркве. Београд: Службени гласник ‒ Хришћански културни центар, 2010. С. 32.
[68] Больше по следам схожих идей об аналогии между эстетическим и экзистенциальным опытом см в: Коларић В. Бити другоме утеха и охрабрење – есеји о хришћанству и култури, Београд: Библос, 2023.
[69] Halik T. Vrijeme praznih crkvi – Od krize prema produbljenje vjere. Rijeka: Ex libris, 2021. С. 31.
[70] Там же. С. 32.
[71] Там же. С. 33.
[72] Там же. С. 34.
[73] Сахаров С. Писма у Русију. Београд ‒ Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 2017. С. 42.
[74] «Чувство всеединства веры, жизни и познания составляет суть православной духовности» ― Поповић Ј. Богоносни христослов. Света Гора Атонска: Манастир Хиландар. С. 62.
[75] Поповић Ј. Пут богогпознања. Ваљево-Београд: Манастир Ђелије. С. 138. О понятии интегрального и целостного сознания см. и: Цветковић В. Цит. соч. С. 167‒171, и Кирејевски И. Ка целовитом уму ‒ религијско-философски списи. Београд: Библос ‒ Отачник, 2021.
Источник: Коларић В. Хришћанство и савремена култура // Култура. 2023. № 178-179.
Перевод с сербского Бранислава Ковачевича
