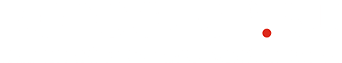Николай Борисов родился в 1973 году в подмосковном Краснознаменске (Голицыно-2). В 1990 окончил школу с серебряной медалью, в 1996 году – МИФИ (кафедра радиационной физики, биофизики и экологии). В 1999 году, после защиты кандидатской диссертации, уехал на постдокторантурную стажировку во Францию, с 2003 года стажировался в США. Вернулся в Россию в 2007-м, доктор технических наук с 2008-го. С 2010 года работает в области биоинформатики для клинической онкологии. Научный руководитель математической и алгоритмической части проекта, обеспечивающего консультативную помощь врачам-онкологам при назначении противоопухолевых препаратов. С 2020 года — профессор МФТИ. Христианин со стажем воцерковленности более 25 лет. Женат с 1997 года. Сыну-студенту ВШЭ (факультет компьютерных наук) 18 лет.
Николай, вы начали заниматься наукой, когда многие из науки уходили. Вы из семьи ученых?
Николай Борисов: Нет. Мои родители имели высшее образование, но я, наверное, первый из нашей семьи, кто занимается научно-исследовательской работой. Мама преподавала в школе, она моя первая учительница физики. У меня было много интересов, в том числе и гуманитарных. Мне нравилось учиться, и я с самого начала стремился не просто получать хорошие оценки, но и хорошо понимать школьные предметы. Почему в итоге выбрал именно физику? Когда я учился в школе, студентов стали брать в армию, и какое-то время единственные, кого не призывали, были инженеры и физики. Правда, в 1987 году стали брать и их, но это продлилось всего год, и в 1988 году студентов дневных отделений брать в армию перестали, а в 1989-м даже досрочно демобилизовали всех, кого призвали. В 1990 году, когда я окончил школу, эта проблема уже не стояла, но поскольку я, успевая по всем предметам, уже несколько лет усиленно занимался физикой, решил, что такая мощная наработка не должна пропадать, и поступил в МИФИ. Окончил его в 1996 году, в 1999-м защитил кандидатскую.
Девяностые были для науки очень трудным десятилетием. Диссертаций в середине девяностых защищалось мало, особенно кандидатских. Докторские диссертации были – кандидаты наук защищали то, что наработали еще в советское время, – а кандидатские появились только в конце десятилетия. У поколения чуть постарше судьба в науке еще сложнее, потому что люди должны были кормить свои семьи, а для этого приходилось либо уходить из науки, либо сразу после окончания вуза уезжать за границу. Возможности уехать почти ни у кого из молодых специалистов тогда не было, поэтому подавляющее большинство людей, которые старше меня на четыре-пять лет, из науки ушли. Это не их вина, это беда.
Нам было проще. Мы могли уйти в науку, как во внутреннюю эмиграцию, пересидеть самые плохие годы, занимаясь, например, репетиторством. Женился я в 1997 году, когда ситуация начала исправляться, в 1998 году опять произошел обвал, но у меня уже были наработки для диссертации, я защитился и тут же уехал за границу. Три года работал во Франции, пять лет в США, а окончательно вернулся, когда заболели мои родители. Мама заболела раком, ее надо было лечить, и мне дали специальную лабораторию медицинской физики для борьбы с раком.
До маминой болезни ваши научные исследования тоже были связаны с медициной?
Николай Борисов: Да, я изначально работал на кафедре радиационной физики, биофизики и экологии, эта кафедра работает на стыке физики и биологии, физики и медицины, математики и биологии, математики и медицины. Сначала это было изучение воздействия ионизирующих излучений на живой организм, а потом уже перешло в вычислительную молекулярную биологию, информатику, биостатистику, математическую биологию, и сейчас мы имеем уникальную системную биоинформатическую платформу для диагностики показаний к назначению тому или иному раковому больному тех или иных препаратов. Есть соответствующие методы, которые и я разрабатывал как научный руководитель этой проблемы. Часть методов основывается на использовании знаний о механизмах клеточных сигналов, которые заставляют клетку делиться и, соответственно, вызывают рак – как лекарство вмешивается в этот процесс. А некоторые наши методы основаны на чистом машинном обучении, когда строится модель, чем больной, которому помогло то или иное лекарство, отличается от больного, которому это же лекарство не помогло. В результате наших разработок мы имеем классификаторы, которые дают возможность с восьмидесятипроцентной точностью определить, поможет или не поможет конкретному больному это лекарство.
А о Боге вы задумались тогда же или раньше? Среди ваших многочисленных интересов в детстве интерес к религии был?
Николай Борисов: Не было. Весной 1985 года нас водили в Оружейную палату, там была чаша для причастия – потир, и я вообразил, будто во время литургии этот потир ходит по кругу между верующими. Представляете степень моего религиозного невежества?! Мне 12 лет, самое начало перестройки, которая еще не осознана народом, запрет на продажу Библии будет снят через два года и в это же время за контрабанду Библии перестанут давать тюремный срок.
Интерес к религии у меня начался с того, что многие окружающие считали меня чокнутым, блаженненьким, некоторые прямо об этом говорили, и были такие поддевки: «ты прямо как Алеша Карамазов». Задумался: а почему меня сравнивают с Алешей Карамазовым, почему он заинтересовался религией, почему пришел к Богу? Внутренняя эмиграция в науку в начале девяностых была некой аскезой, и именно из-за насмешек я заинтересовался, что у нее общего с христианской аскезой, с христианским образом жизни.
Крестился я в 1995 году, на святках. Долго к этому готовился, читал книги и общался с людьми, иногда и на службы ходил, но сам порядок церковной службы стал мне известен только после крещения, когда начал активную молитвенную жизнь. До крещения были и сомнения, колебания, но к началу 1995 года я понял, что дальше откладывать невозможно и быть оглашенным (де-факто, потому что надо мной не было произнесено оглашение) я больше не могу. Принял крещение, и с той поры началась моя церковная жизнь. Тогда многие из интеллигенции воцерковлялись, потому что политизация православия уже была, но не принимала таких гротесковых форм, не выплескивалась за пределы Церкви, не становилась мейнстримом, созвучным массовым настроениям совершенно нецерковной части населения. Тогда можно было верить в «Москву – Третий Рим» и при этом не быть агрессивным реваншистом и милитаристом. Сейчас, в XXI веке, поклонник идеи Третьего Рима и не милитарист – сочетание невообразимое, а в начале и середине девяностых оно никого не удивляло.
Вы увлекались этими идеями?
Николай Борисов: Относился толерантно. Видел, что люди, может, в чем-то невежественны, отвергают какие-то научные знания, у некоторых даже проскальзывают ксенофобские настроения, но зато как они молятся, как смиренны, как аскетичны! Это не казалось, а действительно было. Я достаточно быстро познакомился с этой субкультурой, и первые годы мне не хотелось перечить ее представителям именно потому, что они так ревностны и благочестивы. Но вспоминаю. 1999 год, я, молодой, только что защитившийся кандидат наук, уже подписавший контракт на работу во Франции, осенним утром гуляю по Подмосковью, рядом Ярославское шоссе, дорога идет прямо по тому тракту, по которому шли паломники в Троице-Сергиеву лавру, и на повороте стоит новая, недавно построенная церковь. Заходим туда с женой и видим, что за свечным ящиком продается журнал «Русский дом», начинаю его листать, а там статья про телегонию. И тут я себе сказал: «Хватит! Хватит благодушно относиться к невежеству, к лженауке».
Тогда массово верили не только в телегонию, но и в двадцать пятый кадр, которым якобы можно зомбировать, и никакие объяснения людей, знакомых с наукой, что все это выдумки и никакого двадцать пятого кадра нет, до поры до времени не помогали. Общественного запроса на научно-популярное просвещение не существовало. Он придет позже, и придет от атеистов, а в девяностые атеизм как общественное явление практически отсутствовал и разве что был представлен совсем маргинальными личностями.
Уже потом, в XXI веке, народ понял, что жить надо в новых условиях, что в новых условиях можно жить, и апокалиптические настроения тут же исчезли. А на рубеже 1999-2000 годов, помню, один астроном из МГУ, чуть постарше меня, на форуме Андрея Кураева безапелляционно писал, что близкий конец света – вещь доказанная. Я спросил: «Ребята, а не торопим ли мы Бога, объявляя близкий конец света?» Услышан не был. Сейчас в близкий конец света верят только маргиналы вроде недавно отлученного от Церкви бывшего схиигумена.
У вас в начале ваших духовных поисков не было сомнений насчет совместимости науки и религии? Уже тридцать лет нет государственной пропаганды атеизма, но и сегодня многие в России убеждены, что между научным знанием и верой есть непримиримые противоречия. И среди ученых есть люди, так считающие.
Николай Борисов: Причем в это верят и многие ученые в странах, не имевших опыта массово насаждаемого государственного атеизма. К сожалению, эта обратная сторона вольнодумства древнее, чем советский режим и советский атеизм. Она в странах христианской культуры имела место еще в позапрошлом веке.
Но, повторяю, в девяностые атеизм в России отсутствовал как социальное и как интеллектуальное явление. Даже убежденный атеист Борис Жуков, научный журналист, как-то сказал, что в девяностые атеисты манифестировали свои убеждения в очень узком кругу, а социально манифестируемый атеизм был представлен явными социопатами.
Но вы же были внутренним эмигрантом. Если вас не смущало, что вас называют чокнутым и блаженненьким, тем более не могло смутить, что атеизм не в моде и его вообще как бы нет.
Николай Борисов: Я прочитал «Настольную книгу атеиста». Последние ее издания достаточно энциклопедичны. В тех местах, где не критикуется религия, это достаточно добротное религиоведение и добротное описание молитвенных практик разных религий. Была там и очень интересная карта религиозного состава населения в разных странах, за исключением СССР. То есть был религиозный состав зарубежной Европы, включая соцстраны, зарубежной Азии, также включая соцстраны, а СССР не было. Издание 1987 года. В 1988 году в связи с Тысячелетием Крещения Руси наступил «Миланский эдикт».
В совместимости науки и религии я не сомневался, потому что с позиции той эпохи это было совместимо. Я не работаю кулаками и локтями, не грызусь за место под солнцем, но и ученые не грызутся (ах, каким наивным идеалистом я был тогда!), и христиане не грызутся. В этом смысле христианство было такой же оппозицией бандитскому духу, как и наука. Поэтому мыслей, будто наука по духу противостоит религии, у меня даже не возникало. В противостоянии духу наживы и насилия ученые и христиане тогда были как бы соработники.
После крещения вы сразу стали ходить в конкретный храм и нашли духовника?
Николай Борисов: Да. Это очень личное, поэтому не стану называть ни духовника, ни храм, скажу только, что со своим будущим духовником встретился еще за полгода до крещения, летом 1994 года. Считаю очень важным тот факт, что моя церковная жизнь началась сразу после крещения. Да, я уже кое-что прочитал и знал до крещения, но никакие книги не заменят участие в таинствах. И с самого начала я стал ходить на исповедь к этому священнику. Только в прошлом году, когда ему исполнилось 87 лет, он попросил старых духовных чад не беспокоить его рутинными исповедями, и я стал на исповедь ходить в один подмосковный храм, чему способствовал и карантин. Но этот священник, который привел меня к Богу, жив, ему уже 88 лет, и дай Бог ему здоровья!
Когда я начинал воцерковляться, большую часть прихожан составляли бабушки. Мне даже говорили знакомые: ну что ты, как старая бабка, поклоны бьешь? В очереди на исповедь мужчин было совсем мало, и радовались каждому мужчине, да еще молодому, потому что среди молодых мужчин считалось, что правильный пацан должен зарабатывать деньги, а не молиться. Уже позже, в XXI веке, среди молодых мужчин ходить в храм станет модно и престижно, а я еще застал такое ироничное отношение к этому. Застал старушек, готовых поучать любого пришедшего в церковь – они его сразу по поведению распознавали и обрушивали на него целую тираду. Кстати, большинство батюшек старушек за это ругали. Правильно ругали, но старушки были замечательные. К сожалению, почти никого из них уже нет.
Эти старушки – женщины, чья юность пришлась на время до начала хрущевских гонений. После войны был период, длившийся больше десяти лет, когда начальству религия была запрещена, а если человек не имел каких-то социальных амбиций, он мог ходить в церковь и даже приводить туда детей. Поэтому эти старушки имели опыт церковной жизни, а некоторые и церковного воспитания, конца сороковых – начала пятидесятых годов. Они, как правило, были небогатые, невысокого социального статуса, очень светлые и добрые.
Не было у вас неофитского желания бросить науку?
Николай Борисов: Таких мыслей не было. Отец подтрунивал: «А не хочешь ли ты стать попом? Зачем же мы тогда тебя образовывали? Не бросишь ли ты науку?», но я сразу сказал, что не брошу.
Началось с подтруниваний, но на смертном одре мои родители и тетя, которая была мне второй мамой, исповедовались и приняли причастие. Отец – перед 70-летием Победы, которое он, фронтовик, встретил, к сожалению, уже в госпитале, прикованный к постели. На Троицкой седмице он отошел. А тетя, мамина сестра, ушла на святках в 2018 году. Последний раз она причастилась в день смерти. Болела она долго и тяжело, в тот день утром приняла причастие, а за час до полуночи Господь ее отпустил.
Неофитское рвение у меня, конечно, было, но оно проявлялось, например, в стремлении вычитывать по Часослову весь суточный круг богослужения, а потом был найден баланс между молитвой, работой и семьей. Также я понял, что трепетное отношение к вере, к православным святыням вовсе не обязывает христианина принимать мракобесные антинаучные и радикально-политические идеи, выдаваемые их адептами за православные.
Например, многие православные убеждены, что теория эволюции ненаучна и несовместима с верой в Бога. Поскольку ваши исследования напрямую связаны с биологией, предполагаю, что вы не раз сталкивались с таким отношением и, возможно, даже участвовали в дискуссиях на эту тему?
Николай Борисов: Конечно. Проблема не новая. Еще 150 лет назад Алексей Константинович Толстой написал стихотворное послание Лонгинову о дарвинизме. Проблема действительно есть. Проблема в том, что, допуская эволюцию, мы допускаем смерть (пусть даже смерть животных) до человеческого грехопадения. Конечно, животные страдают, конечно, страдание – это плохо, и есть, например. «теодицея» Палеонтологического музея: как мог Бог творить мир посредством страданий? Ответа на этот вопрос нет, но, на мой взгляд, вопрос о смысле страданий динозавров – вопрос праздный. Мы даже не знаем, за что страдают дети, которые болеют раком. Конечно, они живут в мире, полном греха, но Христос сказал, что согрешил не слепой и не его родители, что он был слеп не в наказание за свой или родительский грех, а чтобы на нем явились дела Божии. Не всегда страдание есть кара. Как народное «богословие» пыталось объяснить детские болезни и детскую смертность? Якобы дети эти стали бы страшными злодеями, а Бог хранит их от злодейства и забирает на небеса, когда они еще невинные младенцы. Но так можно далеко зайти, договориться до того, что и младенцы, сгоревшие в печах Холокоста, должны были стать злодеями. Это же не просто чушь, но и страшное кощунство. Не можем мы объяснить, почему страдают и умирают дети. Теодицеи в детской онкологической больнице быть не может. А если мы не можем создать непротиворечивую теодицею для детской онкологической больницы, то зачем мы будем думать о смысле страданий динозавров, которые умерли за много веков до нас, до первого человека? Что я могу сказать? Да, динозавров жалко. Они вымерли в результате какой-то катастрофы. Но разве детей, которые каждый день умирают в онкологических больницах, не более жалко, чем динозавров? Разберитесь сначала с детьми, а уж потом о динозаврах думайте.
А не было у вас таких мыслей, что раз вы теперь верующий, то эволюция, которую вы изучали в школе и институте, ложь?
Николай Борисов: У меня не могло быть таких мыслей. Я всегда хорошо учился, учился так, чтобы понимать предмет, поэтому знал, что у людей и у шимпанзе есть одинаковые ошибки в геномах, и эти ошибки обусловлены тем, что некий вирус вставил свою ДНК в геном общего предка человека и шимпанзе. Знал, что этот кусок вирусного генома находится у человека и шимпанзе в одинаковых местах, да не в одном случае, а в тысяче разных. Можно, конечно, придумать, будто Бог такой испытатель нашей веры, что создал мир 7528 лет назад за одну неделю, но таким, каким Он бы его создавал миллиарды лет, но что мы тогда получаем? Мы получаем бога – отца лжи. Тоже какая-то кощунственная нелепость. Дело в том, что по-иному биологический материал, особенно генетический, истолковать нельзя. Человек действительно имеет с животными общих предков. С каждым животным. Этот предок может быть более древним или менее – чем больше животное похоже на человека, тем наш общий предок новее, – но те же самые части вирусного генома в человеке и животных по-иному интерпретировать нельзя. Либо мы верим в бога-лжеца.
И из геологии известно, что животные существовали на земле гораздо раньше, чем появились люди, и из ядерной физики – по соотношению изотопов в вулканических породах – известно, что динозавров от нас отделяют десятки, а некоторых и сотни миллионов лет. Как и почему Бог допустил гибель динозавров? Даже если бы люди явились на землю как оживленные глиняные статуи, это не отменило бы того факта, что животные умирали до существования людей. Это от эволюции не зависит, а зависит от времени существования земли. Утверждение, что человеческий мир создан за шесть суток, с наукой не согласуется никак, поэтому тем, кто пытается всех в этом убедить, приходится врать.
До конца девяностых я и не знал, что в Церкви есть очень влиятельные радикальные антиэволюционисты. Тогда мне показали креационистский учебник священника Тимофея. Центр «Шестодневъ» появился чуть позже, когда я уже работал во Франции. Активисты-креационисты даже обращались к священноначалию, чтобы оно сделало официальное заявление о том, что эволюция для христианина неприемлема. Конечно, священноначалие такого заявления не сделало, но самые активные креационисты продолжают «анафематствовать» всех, кто указывает на явную антинаучность их теории.
В России, когда вы начали воцерковляться, большую часть прихожан составляли простые советские старушки. А во Франции и Америке какой был социальный и национальный состав прихожан?
Николай Борисов: Разный. Много, конечно, было детей и внуков белоэмигрантов, и мне в начале века некоторые из них даже говорили: вы не русский, вы советский. Мне это казалось обидным, но потом я понял, что они были не так уж и неправы. Тогда как раз обсуждался вопрос о воссоединении с Зарубежной Церковью, были по этому поводу и споры, и интриги. Были среди прихожан и эмигранты последней волны, и россияне, работающие, как и я, по контракту, и французы, и американцы. Есть на Западе и в США интерес к православию, к русской культуре.
Когда вы вернулись, заметили какие-то перемены в российской церковной жизни?
Николай Борисов: Заметил, но это перемены не скачкообразные, а эволюционного характера. Стало больше мужчин, но средних лет и старше. Молодежи меньше. Увы, молодежь мы теряем.
Ваш сын сейчас студент?
Николай Борисов: Да, учится в Высшей школе экономики на факультете прикладной математики и информатики и своими успехами в учебе нас радует.
В церковь ходит?
Николай Борисов: В церковь ему сейчас трудно ходить по причинам, которые я назвал, но я до двадцати лет тоже не ходил. Ни в коем случае не боюсь за сына. Он взрослый, ответственный и должен сам делать свой выбор. Думаю, что христианское воспитание, которое мы ему дали, сыграет свою роль. Родители воспитывают своим примером. Воспитание имеет результат, когда ребенок видит своих родителей в труде.
А ваши студенты знают, что вы верующий?
Николай Борисов: Многие знают, потому что читают мою страницу в фейсбуке, а я пишу там и о вере, и о Церкви. Удивляются: как вы, ученый, – и верующий, не лукавите ли вы, не кривите ли душой? Я им в ответ рассказываю то, что уже рассказал вам – что в девяностые был момент, когда ученый и христианин казались союзниками во внутреннем противостоянии культу насилия, наживы. Тогда они спрашивают: а почему вы апологетизируете девяностые, пишете, что были возможности развития страны? Пишу я это, потому что возможности действительно были, но мы их упустили.
Насколько важен, на ваш взгляд, диалог науки и религии? Не пробовали организовать мероприятия для такого диалога?
Николай Борисов: Сейчас в связи с эпидемией всё уходит в онлайн, а в онлайне это можно организовать, не вставая с кресла. Если до эпидемии у всех нас в образовательном мире было предубеждение против онлайна, сейчас это вопрос жизни и смерти, потому что большие собрания просто опасны. Безусловно, диалог науки и религии важен, такие мероприятия нужны, и я бы, конечно, с удовольствием в них поучаствовал, но я не организатор. У меня для этого просто нет времени. У меня другая работа и она требует других ресурсов.
Вы уже вкратце рассказали, чем занимается ваша лаборатория. Наверное, в такой работе очень актуальны проблемы биоэтики?
Николай Борисов: Конечно. Многие противораковые лекарства – например, моноклональные антитела – очень дорогие. Некоторые стоят примерно столько же, сколько квартира в Москве. Правда, они субсидируются государством. Наши разработки позволили бы сэкономить эти деньги. Производители лекарств не заинтересованы в тщательном отборе пациентов, потому что если строго отбирать пациентов, которым эти лекарства подходят, часть лекарств применена не будет - в тех случаях, когда их и не надо применять, потому что это неэффективно. Для производителей это соответствующие денежные потери, а для страховых компаний и государства, которое спонсирует эти жизненно важные препараты, была бы большая экономия. Пока наше исследование не вышло за опытно-экспериментальный формат, мы не взаимодействуем с фармгигантами, но если разработанный нами метод начнет широко применяться, возможен конфликт с ними. Надеюсь, что до этого не дойдет, но теоретически такой конфликт интересов возможен. Это как раз вопрос биоэтики.
Беседовал Леонид Виноградов для «Богослов.Ru»
Фото: Евгений Вербовой / ПостНаука