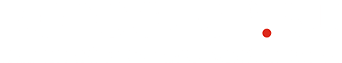Со времен древнегреческой философии изучение природы и сущности человека имеет непреходящий характер. Этот вопрос нашел отражение и в христианской антропологии. При этом античных философов всегда интересовал нематериальный онтологический модус в устроении человека, его духовная сторона. С приходом христианства античный идеализм свою концептуальную терминологию сохраняет, но она получает переосмысление в контексте боговоплощения. Если в философии распространена идея о том, что материальное бытие является объективным «довеском», отягощающем бытие духовное[1], то для христианства материальная составляющая человека становится средством актуализации приоритета духовного бытия, или восхождения человека к Богу[2]. На этом основании возникает и выстраивается огромный пласт христианских аскетических творений с антропологическими воззрениями, главным направлением которых является одухотворение плоти и возможность божественного созерцания. По этому поводу христианская и философская мысли утвердительно говорят, что наряду с чувственным зрением, которым созерцается мир материальный, в человеке должно существовать зрение, способное к созерцанию мира духовного, или умопостигаемого. Таким образом, эти духовные «очи» обретают наивысший онтологический статус в человеке, а именно в его душе. Но здесь возникает терминологическая проблема, так как вслед за античными философами христианская антропология присваивает наивысшей части человеческой души различные названия, такие как «дух» (πνεύμα), «ум» (νοῦς), «разум» (λόγος) и «рассудок» (διάνοια). В настоящей статье мы попытаемся найти решение данной проблемы и преодолеть возможную противоречивость указанных понятий, что в дальнейшем значительно упростит наше понимание антропологических воззрений святых отцов и учителей Церкви
на наивысшую часть души человека, а также позволит более ясно и адекватно воспринимать их аскетические творения.
Для начала мы обратимся к определению души (ψυχὴ), которое дает прп. Иоанн Дамаскин: «Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, по своей природе невидимая для телесных глаз, бессмертная, одаренная и разумом, и умом (λογική τε καὶ νοερά), не имеющая формы, пользующаяся снабженным органами телом и доставляющая ему жизнь, и приращение, и чувствование, и производительную силу, имеющая ум (τὸν νοῦν), не иной по сравнению с нею самой, но чистейшую часть ее, ибо как глаз в теле, так ум в душе (ἐν ψυχῇ νοῦς) [одно и то же]; независимая и одаренная способностью желания, также и способностью действования, изменчивая, то есть обладающая слишком изменчивой волею, потому что она – и сотворенна, получившая все это естественно от благодати Сотворившего ее, от которой она получила и то, что существовала, и то, что была таковой по природе»[3]. Из определения ясно следует, что ум (νοῦς) является частью человеческой души (ψυχὴ), и при этом, по словам преподобного, «ум находится в середине между Богом и плотью: плотью, как живущий вместе с нею, а Богом, как образ Его. Итак, ум соединяется с умом, и ум Божий служит посредником между чистотой и плотской грубостью»[4], то есть ум занимает место наивысшей части души, посредствам которой происходит созерцание (νόησις, θεωρία) умопостигаемого божественного мира.
Далее, опираясь на святоотеческое наследие, можно увидеть, что последователи трихотомизма (др.-греч. τριχοτομία – «разрубание, разделение натрое»), или трехсоставности устроения человеческой природы, утверждают, что наивысшая часть человека – его дух (πνεύμα), который в соответствии с дихотомизмом (др.-греч. διχοτομία – «разрубание пополам, разделение надвое»), или учением о двухсоставности человеческой природы, соответствует наивысшей части человеческой души (ψυχὴ) – уму (νοῦς). Противоречия здесь нет, так как, по сути, излагается одно и то же, только в разных контекстах[5]. Таким образом, при видимом противоречии наблюдается тождество двух святоотеческих направлений в изучении антропологии человека, также подтверждаемое Священным Писанием, которое указывает как на двухсоставность, так и на трехсоставность человеческого устроения: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф. 6:25)[6]; «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12)[7]. Эта тождественность также наблюдается, когда святые отцы, опираясь на понятийный аппарат древнегреческой философии, используют понятия «дух» (πνεύμα) и «ум» (νοῦς) как синонимы[8], взаимно предполагающие друг друга. Как дух (πνεύμα) человека есть «высшая сторона человеческой жизни, – говорит свят. Феофан Затворник, – сила, влекущая его от видимого к невидимому, от временного к вечному, от твари к Творцу, характеризующая человека и отличающая его от всех других живых тварей»[9], так и ум (νοῦς) есть «руководство и путь к Богу»[10].
Также необходимо заметить, что о духе (πνεύμα) и об уме (νοῦς) говорится как о частях души, но вместе с тем понятие «ум» употребляется святыми отцами в православной антропологии и аскетике при описании трехчастного устроения души (ψυχὴ) как ее сила, а именно как разумная (γνωστικον), наряду с которой также прибывают раздражительная (παρασηλοτικον) и желательная (επιθυμητικον) силы[11]. Таковые терминологические обороты можно объяснить тем, что дух (πνεύμα), будучи частью человеческой души, имеет энергийный характер бытия, то есть действует в стремлении познания и созерцания Бога. Таким образом, исходя из синонимичности понятий «дух» (πνεύμα) и «ум» (νοῦς), получается, что последний вполне можно назвать действующей силой, которая присуща душе (ψυχὴ). При этом ум (νοῦς) одновременно является составляющей частью души и проявлением ее разумности как силы. Отсюда становятся ясными вышеприведенные слова свят. Феофана о том, что дух (πνεύμα) – это не только часть человека, но и действующая сила (энергия).
Двигаясь дальше, необходимо отметить, что наряду с понятием «ум» (νοῦς) святоотеческая традиция различает понятие «разум» (λόγος), при этом сохраняя между ними ассоциативную связь. Так, свят. Феофан в своем антропологическом учении разум называет силой духа, то есть определяет его как проявление (действие) наивысшей части человеческого устроения. Чтобы понять связь и различие понятий «ум» и «разум», которые занимают наивысшую иерархическую ступень, необходимо снова обратиться к прп. Иоанну Дамаскину, который говорит: «Созерцательная способность – та, которая рассматривает сущее, в каком положении оно находится; способность же действовать – та, которая обсуждает, та, которая установляет правильный смысл тому, что должно быть делаемо. И созерцательную способность называют умом, способность же действовать – разумом; и также созерцательную способность называют мудростью, способность же действовать – благоразумием»[12]. То есть ум (νοῦς) является созерцательным органом нетварного (умопостигаемого) бытия, а когда ум (νοῦς) не созерцает, тогда он рассуждает в выстраивании понятийного аппарата как на основе созерцаемого нетварного, так и тварного, а также в совокупности. Таким образом разум, занимающий наивысшее иерархическое место в душе человека, есть тот же ум (νοῦς), но только практический. Другими словами, разум (λόγος) – это ум, имеющий иной образ действия (энергии). Вследствие чего в святоотеческой традиции понятия «ум» и «разум» могут нести одно и то же смысловое значение,
в частности это касается свят. Феофана, когда он говорит, что «предмет познаний разума есть верховное Существо – Бог, с бесконечными Своими совершенствами, и Божественный вечный порядок вещей, отражающийся как в нравственно-религиозном устройстве мира духовного, так и в сотворении и промышлении или в устройстве тварей и ходе происшествий и явлений природы и человечества»[13]. В данном примере явно прослеживается, что понятие «разум» у свят. Феофана обретает тождество с понятием «ум» (νοῦς) у прп. Иоанна Дамаскина.
Итак, разум (λόγος) и ум (νοῦς) являют собой одну и ту же силу, присущую духу (πνεύμα) человека, который в свою очередь, согласно дихотомисткому учению, является наивысшей частью человеческой души. Но если рассматривать трихотомисткое учение, то возникает вопрос: что, если ум (νοῦς) или разум (λόγος) являются силами духа, тогда какова мыслительная деятельность человеческой души, занимающей место посредницы между телом (σώμα) и духом (πνεύμα). Согласно системе познавательных сил человека, предлагаемой свят. Феофаном, таковую деятельность осуществляет рассудок (διάνοια), который по иерархии стоит ниже разума (λόγος), так как пользуется силами низшей степени – воображением и памятью, которые «при посредстве чувств наблюдением ли или чтением и слышанием собирают для него материалы, доставляя сведения о всем являемом и существующем вне нас и в нас так, как все существует и является в пространственно-временных отношениях»[14]. Таким образом рассудок (διάνοια) преобразует полученную от них информацию в познания и понятия, которые складываются в разуме (λόγος), иначе говоря, способность «представления передает мыслительной способности восприятия внешних чувств; способность же мышления, или рассудок, приняв и обсудив это, отсылает способности памяти»[15]. То есть основная деятельность рассудка (διάνοια) – это рассуждение, составление понятий на основании соприкосновения с чувственным миром. При этом свят. Феофан говорит, что основной задачей связи рассудка (διάνοια) и разума (λόγος) является составление правильных понятий, которые дают истинную картину всего существующего и, соответственно, ставят человека в правильное отношению к тварному миру. Если же отойти от системы свят. Феофана, в которой разум является созерцательной силой, и вернуться к выводу о том, что разум – это не созерцающий, а рассуждающий ум (νοῦς), то понятие «рассудок» (διάνοια), по свят. Феофану, отождествляется с понятием «разум», но в данном случае опирающемся на понятия чувственного мира. Таким образом можно прийти к новому выводу, что рассудок (διάνοια) – это проявление действия все того же ума (заложенной способности мышления), как несозерцающего разума, обращающегося к тварным понятиям и логическим умозаключениям.
Подводя итог и размышляя над изложенным, важно не упустить из вида, что понятия познавательных сил ума (νοῦς), разума (λόγος) и рассудка (διάνοια) имеют тварный и в то же время духовный (нематериальный) характер. Следовательно, дать им объективное различие и определение как силам, действующим в человеке, невозможно, так же как и сказать об их определенном местоположении в человеке. Выходит, что ум, разум и рассудок – это одна и та же разумная сила души, действующая в различных проявлениях и обладающая единой тварной природой. Это ум (νοῦς), который способен действовать как ум созерцающий, как разум – ум созерцающий и не созерцающий, а также рассуждающий в рамках отношения тварного и нетварного, и как рассудок (διάνοια) – ум, рассуждающий в категориях материи. Можно предположить, что данные проявления (действия) ума могут быть связаны с различными состояниями человека, которые можно описать как духовное, душевное и плотское. Ум (νοῦς) же, как духовный (нематериальный) орган, при этом остается неделим, ибо «он прост и в простом не усматривается разнообразия».[16] Отсюда становится ясным использование в святоотеческой традиции термина «ум» (νοῦς) с различными смысловыми оттенками, но при этом всегда относящимися к мыслительной, познавательной деятельности (энергии).
На этом основании мы приходим к выводу, что ум (νοῦς) – это разумная сила души (ψυχὴ), которая «здраво рассуждает и верно отличает добро от зла, и показывает определенно и властно силе желательной, к каким вещам подобает ей склоняться желанием, какие любить, от каких отвращаться»[17], и это наивысшая, господствующая часть души, ибо «ум» (νοῦς) «будучи образом Божиим, имеет свойственное ему в себе, когда пребывает в сродной ему деятельности и не допускает в себе движений, далеких от его достоинства и природы. Почему охотно любит вращаться в том, что к Богу относится и с Тем ищет соединиться, от Коего получил начало, Коим движется и к Коему устремляется по естественным своим свойствам, и Ему подражать желает человеколюбием и простотою»[18].
[1] «Тело подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу. В то же время эта плита представляет собою также и знак, ибо с ее помощью душа обозначает то, что ей нужно выразить, и потому тело правильно носит также название "сома". И все же мне кажется, что скорее всего это имя установил кто-то из орфиков вот в каком смысле: душа терпит наказание – за что бы там она его ни терпела, – а плоть служит ей оплотом, чтобы она смогла уцелеть, находясь в теле, как в застенке. Так вот, тело есть так называемая плоть для души, пока та не расплатится сполна, и тут уж ни прибавить, ни убавить ни буквы» (Платон. Сочинения в четырех томах. T. 1. Кратил. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2006. С. 448).
[2] «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. <…> Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:13, 19-20).
[3] Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. Книга 2. Глава 12. О человеке. М.: Сибирская Благозвонница, 2012. С. 140-141.
[4] Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. Книга 3. Глава 18. Еще о [двух] волях, и свободах, и умах, и знаниях, и мудростях. М.: Сибирская Благозвонница, 2012. С. 304.
[5] «В древнехристианской литературе не было такого схематического деления, т. е. в христианской мысли древности не было двух друг другу противоположных школ или одно другое исключающих течений. Спора дихо- и трихотомистов история патристической литературы не знает. Если же одни писатели предпочитали говорить о двухчастности человека, то это не мешало им допускать в других случаях и трихотомию» (Киприан Керн, архим. Антропология свт. Григория Паламы. Часть вторая систематическая. Глава шестая. Природа человека и строение его. М.: Паломник, 1996. С. 323).
[6] Греч.: «διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί πίητε μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος».
[7] Греч.: «ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας».
[8] «Релятивный человеческий дух понимается в древнегреческой философии как ум, нус, и тем самым подчеркивается интеллигибельная природа духа. Для обозначения духа у Платона и Аристотеля нет другого понятия, как нус. Под словом «пневма» понимается у обоих нечто совершенно иное. У Платона пневма и дыхание (пноэ) – синонимы. Под пневма подразумевается также и жизненная сила, которая, по Платону, разносится по всему телу с кровью. У Аристотеля (περί φιλοσοφίας) пневма есть также психический флюид, жизненная энергия. На нашем обычном языке и на научно-философском языке, когда говорят о духе, то имеют в виду интеллект, т. е. преобладает односторонне интеллектуалистическая точка зрения» (Позов А.В. Основы древнецерковной антропологии. Том I. Сын Человеческий. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. C. 41-42).
[9] Феофан Затворник, свят. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Глава 10. Всеобщность веры в бытие Божие как проявление духовной жизни. М.: «Отчий дом», 2012. С. 37-38.
[10] Макарий Коринфский, свят. Добротолюбие. Т. 1. Наставления Святого Антония. 2. Наставления о доброй нравственности и святой жизни. М.: Сибирская благозвонница, 2010. С. 39.
[11] «В душе нашей усматриваются, по первоначальному разделению, три силы: сила ума, сила вожделения и сила раздражения» (Творения святых отцов. Т. 45. Творения Святаго Григория Нисского. Ч. 8. Каноническое послание святого Григория Нисскаго к Литоию епископу Мелитинскому. Правило 1. М.: Типография В. Готье на Кузнецом мосту, 1861. С. 421).
[12] Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православно веры. Книга 2. Глава 27. О том, по какой причине мы произошли со свободною волею. М.: Сибирская Благозвонница, 2012. С. 189.
[13] Феофан Затворник, свят. Начертание христианского нравоучения. III. Последствия и плоды доброй христианской жизни и жизни противоположной ей. М.: «Правило веры», 2010. С. 287-288.
[14] Феофан Затворник, свят. Начертание христианского нравоучения. III. Последствия и плоды доброй христианской жизни и жизни противоположной ей. М.: «Правило веры», 2010. С. 307.
[15] Немезий Эмесский, еп. О природе человека. Глава 13. О способности помнить. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. С. 72.
[16] Творения святых отцов. Т. 37. Творения Святаго Григория Нисского. Ч. 1. Об устроении человека. Глава 11. О том, что естество человеческое неуразумеваемо. М.: Типография В. Готье на Кузнецом мосту, 1861. С. 108.
[17] Симеон Новый Богослов, прп. Слова. Слова нравственные. 84. М.: Типо-литография И. Ефимова, 1897. С. 410.
[18] Макарий Коринфский, свят. Добротолюбие. Т. 5. Преподобный Никита Стифат. Третья умозрительных глав сотница любви и совершенстве жизни. М.: Сибирская благозвонница, 2010. С. 75.