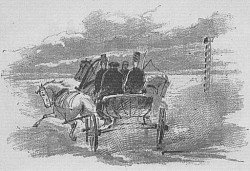
Вот это место: «Из семейственных преданий известно, что он (П. А. Гринев. — В.К.) был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу» [1].
Читаешь и спрашиваешь себя — зачем нужно было Пушкину это упоминание, эта еще одна встреча? Разве недостаточно было Гриневу просто услышать о смерти Пугачева? Или, наоборот, мог же ведь Пушкин подробно (и драматично) рассказать о казни Пугачева? Функция этой встречи никак не оправдывается сюжетом повести, она может быть необходима только с точки зрения идеологии повести. Дело в том, что эта встреча глазами — и кивок Пугачева, как бы подтверждающий — «Я тебя узнал, ваше благородие, вижу, что и ты меня узнаешь», — есть в чистом виде встреча на том третьем уровне, который служил «пространством» самых глубоких диалогов наших героев. Конечно же, эта встреча есть диалог-молчание (за исключением кивка Пугачева). Однако интенсивность этого диалога несравнимо выше, чем — аналогичные диалоги — молчания в предыдущих встречах: ведь одному из них через минуту отрубят голову, и оба знают это... Это обмен взглядами, в которые вмещается вся жизнь... Это чистое предстояние лицом к лицу. Причем под лицом мы понимаем здесь не часть головы, не материальный психофизиологический факт, а лицо как лик, как духовно-целостный образ человека, выражающий собою всю полноту его жизненного исполнения — данный человек, данная жизнь с точки зрения вечности. Уже и в этой жизни, в пространстве и времени, хотя и замутненный психологизмами, этот лик человека начинает проступать сквозь «муть и рябь» эмпирической действительности [2]. Особенно в критической ситуации, в которой и находятся наши герои во время последней встречи: один присутствует при совершающейся своей казни, другой, глубоко сопереживая, при казни первого...
Гениальное художественное чутье Пушкина подсказывает ему и эту специальную форму: в одном предложении соединены живая — кивающая — голова и мертвая: «...узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу». Та голова, которая «узнала и кивнула», никак не равна другой, «мертвой и окровавленной», не просто потому, что первая — живая, а вторая — нет, а прежде всего потому, что лицо не равно голове; голову можно отрубить, лицо же бессмертно и пребывает в вечности [3]. Всегда будет помнить Гринев последний взгляд Пугачева и всегда будет предстоять перед ним живое лицо последнего, и нескончаем их диалог в вечности — о перипетиях их жизни, о свободе и истине, о мужестве и чести, о преступлении и наказании, о добре и зле... Последняя встреча Пугачева и Гринева представляет собой в очищенном от всего случайного и эмпирического виде как бы парадигму их диалогов, чистую онтологию их общения, и служит своеобразным символом всей повести.
Итак, еще раз: особое значение, которое имеют в повести диалоги Гринева и Пугачева, связано со специальным характером мировоззренческого «пространства», в котором эти диалоги развиваются. Оно (это пространство) странным образом отделено от обыденной жизни, от той сцены, на которой разыгрываются исторические события повести. Хотя все содержание диалогов прямо связано с этой общечеловеческой исторической действительностью, однако, парадоксальным образом, наши герои в своих диалогах как бы занимают определенную дистанцию по отношению к этой действительности, отказываются от своего непосредственного, сплошь и рядом страстного и корыстного отношения к ней и как бы sub speciae aeternitatis ищут истинной и окончательной оценки происходящего. Эта «возгонка» эмпирического героя до уровня субъекта, имеющего возможность взглянуть на свою собственную жизнь и на жизнь вообще с точки зрения вечности, существенно обусловлена христианской идеологией (и антропологией): она предполагает веру в Истину, веру в Бога и открытость человека этой Истине, сущностную онтологическую «вменяемость» человека. Внедрение этой высшей реальности в обыденную действительность имеет характер чуда: как будто раздается какой-то тихий звон, и вдруг все смолкает, — грохот, крики, ожесточенная борьба этого мира отступают куда-то вниз, ослабляется узда жестокой принудительности исторических детерминаций, отменяются законы социальной действительности, и человек с удивлением и радостью открывает вдруг, что самые трагические и, казалось бы, неразрешимые противоречия этой жизни благополучно и счастливо разрешаются. Начинается то, что мы назвали выше «хождением по водам» исторической действительности. Этот особый характер существования в сфере свободы перед лицом Бога — в сфере благодатной свободы, скажем точнее, — прекрасно чувствовал и изображал в своих произведениях Ф.М. Достоевский, воспринявший и развивший многие основные темы пушкинского наследия. Так, в романе «Бесы» Шатов, желая серьезного разговора со Ставрогиным, требуя, чтобы последний оставил свой иронический, снисходительный тон, говорит: «Я уважения прошу к себе, требую! — кричал Шатов, — не к моей личности, — к черту ее, — а к другому, на это только время, для нескольких слов... Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим» (курсив мой. — В.К.) [4]. Истинный глубинный диалог требует специальной духовной переориентации. Горизонтом, в котором должен развиваться этот диалог, должна быть «беспредельность», то есть вечность, в которой все начала и концы, которая испытывает и выносит приговор всем жизненным установкам и личностным позициям. Другими словами, диалог должен происходить перед лицом самой Истины. И человек, ведущий этот диалог, есть уже не обычный, «эмпирический субъект» со всеми случайными чертами его индивидуальной психологической и социальной «физиономии», а человек в особом измерении своего существования. Человек здесь как бы поднимается над самим собой, преодолевает все случайное и поверхностное своей жизни и предстает перед нами своим онтологическим лицом (ликом), отражающим, согласно христианским представлениям, образ Божий. И именно в качестве последнего он a priori достоин уважения. В пушкинской «Капитанской дочке» впервые для XIX века художественно воплощается то «диалогическое пространство», внутри которого на протяжении двух столетий будут вести свои беседы о смысле жизни святые и преступные русские мальчики от Гринева и Пугачева до пастернаковских Живаго и Антипова.
Важно подчеркнуть парадоксальный характер того мировоззренческого горизонта, той духовной атмосферы, в которой происходят эти диалоги. Правда этого особого мира оказывается непонятной миру обыденному, более того — оказывается сплошь и рядом неправдой и преступлением (в полном соответствии с евангельским «Царство Мое не от мира сего»). Мир не признает и активно борется с той божественной правдой, которую обретают наши герои в глубинах собственного самосознания, в глубине собственной свободы.
В не включенной Пушкиным в окончательную редакцию повести пропущенной главе Гринев (именуемый Буланиным), воюющий под началом Зурина (носящего здесь имя Гринева), спешит освободить своих родителей и невесту от притеснений со стороны бунтовщиков и ночью переходит на территорию, контролируемую Пугачевым. Интересна одна деталь из этой главы. «На всякий случай, — пишет Пушкин, — я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева (то есть Зурина, в окончательной редакции. — В.К.)» [5]. Как же можно объяснить миру логику этого поведения, если это обнаружится? Конечно, если бы Гринев был действительно шпионом, разведчиком, тогда, понятно, иметь два удостоверяющих документа от двух противоположных воюющих сторон было бы законно. Мир оправдывает любую ложь и коварство во имя преследуемой цели. Однако как объяснить это в случае Гринева, не являющегося государственным шпионом или, если угодно, являющегося по своей инициативе и шпионом, и разведчиком, но иного, странного «царства», где господствует истина, сочувствие, любовь?.. Реакция мира известна и предопределена: подобный «космополитизм» есть измена и преступление или «по крайней мере, гнусное и преступное малодушие». Реакция и приговор почти неизбежны, как неизбежно и смущение душ человеческих, рано или поздно узнающих всю полноту истины, еще и еще раз напоминающую, что суд людской еще не есть окончательная правда. Эта последняя правда, живущая в глубине сердец человеческих, странным образом присутствует уже и в обыденной действительности, направляет, утешает, поддерживает и, в конце концов, берет верх над любой ограниченной и самоуверенной человеческой правдой... «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» [6].
Итак, еще и еще раз, о чем же повесть? Как выразить главное содержание «Капитанской дочки»? «Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам», — пишет Пушкин в главе о защите Оренбурга. Нельзя, конечно, сказать, что жанр повести — семейственные записки, но намерение автора понятно. Это особое подчеркивание частного характера записок главного героя необходимо Пушкину, чтобы отметить тот ракурс видения, то духовное пространство, в котором происходят все центральные события повести. Повесть не есть исторический роман. Истории пугачевского бунта Пушкин посвятил свою «Историю Пугачева». Но в истории (писаной) человек выступает обычно отчужденно, лишь в качестве носителя определенных социальных, психологических функций. Однако есть у каждого человека и другая история: история живого человеческого сердца, история его веры, надежд, любви и ненависти. «Капитанская дочка» есть повесть о личности в истории, а не исторический роман и романтическая история (отдельно или суммарно). Уже само название повести настраивает нас в лирическом ключе: повесть будет о любви. Но Пушкин решает более сложную задачу: любовь и фундаментальные личностные отношения должны быть показаны на фоне значительных — и известных — исторических событий. Это соединение лирического и эпического жанров выступает как своеобразное высветление смысла истории: исторические события оказываются предопределенными во внутреннем, духовном мире людей, в котором последние противостоят друг другу, как выразители целостных мировоззренческих позиций. Повесть как бы показывает, откуда и как течет время, движется история... С этой точки зрения, собственно, и не очень важно, войну или мир описывает автор, — фундаментальные личностные проблемы остаются инвариантными: любовь, милосердие, ненависть, гордыня, самолюбие, честь, предательство... Авантюрная обстановка театра военных действий разве что лишь катализирует, быстрее и рельефнее выявляет те внутренние идейные предпосылки, которыми руководствуются в своей жизни герои (не очень ясно обычно и сами представляющие, к чему их ведет та или иная мировоззренческая установка). Особое впечатление создает в повести этот контраст между грохочущим, безжалостным миром гражданской войны и сосредоточенной и сочувственной тишиной диалогов главных героев, в которых, кажется, одна душа полностью проникает в другую, и солгать другому становится так же трудно, как солгать самому себе [7].
Источник: Христианство, наука, культура. - М.: Издательство ПСТГУ, 2005.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Там же. С. 334.
[2] Подобное истолкование близко к идеологии иконописи, которую развивал в своих трудах П.А. Флоренский. — См., например: «Иконостас». (Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли. 1: Статьи по искусству. - Paris, 1985. С. 193-316).
[3] Рассматриваемая фраза построена так странно: подлежащие в соединенных предложениях различны и точка зрения повествования как бы перескакивает от одного лица к другому. «...Он присутствовал при казни Пугачева», — присутствует, смотрит Гринев. Но тут же в подчиненном предложении: «...который, узнал его в толпе и кивнул ему головою», — то есть смотрит уже Пугачев. И, наконец, заключение: «...которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу». Читаешь, и невольно напрашивается вопрос: но кто же это смотрит на мертвую и окровавленную голову? Или точнее: чьими глазами смотрим мы, читатели, на эту голову? Ну, конечно, глазами рассказчика, который здесь как бы отделяется от Гринева (безличное «Известно...»). Конечно, и глазами самого Гринева, который ведь присутствует при казни. Но, вчитываясь в эту фразу, вдруг замечаешь, что взгляд Пугачева, который смотрит на толпу, на Гринева, на казнь, также — как бы по инерции остается в последнем придаточном предложении: то есть на мертвую и окровавленную голову мы смотрим и глазами Пугачева тоже!.. Другими словами, лицо Пугачева, как бы переходящее в вечность, смотрит на свою мертвую и окровавленную голову, на отсечение этой головы от тела! Отсекают голову, лицо же пребывает нетронутым...
[4] Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 10. - Л., 1974. С. 195.
[5] Там же. С. 337.
[6] Ин. 1:5.
[7] Эта благодатная тишина духовной сосредоточенности посреди пожарища и одичания гражданской войны — существенная черта также и пастернаковского «Доктора Живаго», во многом зависящего от формальных и содержательных аспектов «Капитанской дочки».
