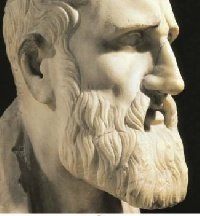
Вступление
В древности Европа была поделена на греческую и латинскую зоны влияния. Границы греческой зоны были определены около 300 года до Р.Х. В Восточном Средиземноморье греческий был языком всей центральной и большей части власти на местах и являлся lingua franca во всех отношениях. Римское завоевание ничего не изменило в этом отношении, оно только добавило тонкий слой латинской администрации поверх греческой, и не прошло и века, как этот слой износился. Напротив, на Западе, который до прихода римских легионов не имел международного языка администрации, коммерции и высокой культуры, латинский заполнил этот вакуум и сыграл ту роль, которая была у греческого языка на Востоке.
Имеет смысл взглянуть на европейскую историю (политическую и культурную), как на встречу двух культур, обусловленных использованием соответственно греческого и латинского языков. В этом ракурсе я и хочу рассматривать историю философии.1 Однако говорить о греческой и латинской культуре как о равнозначных объектах мы можем только в широкой перспективе. В истории, по большей части, доминировала то одна, то другая.
В одно время по большинству вопросов латинский мир был принимающей стороной. Наряду с тем, что латиняне, насколько могли, жадно впитывали греческую культуру, некоторые римляне, такие как Катон Старший, тешили свое уязвленное самолюбие, именуя греков Graeculi и превознося добродетели mos maiorum. В другое время принимающей стороной был греческий мир, но многие греки утверждали, что это не так, пытаясь сохранить чувство собственного достоинства, ведь, в конце концов, латиняне были варварами.
Такое отношение никому не идет на пользу. Люди, которые понимают, что другая культура имеет в какой-то области что-то лучшее, чем их собственная — достойны похвалы. Особенно, если они своими переводами активно способствуют ознакомлению членов своего языкового общества с иным образом мысли. Цицерон внес свой вклад в усвоение греческой мысли Западом. С другой стороны, достойны уважения люди с высоким уровнем греческой культуры, которые в свое время понимали, что могут чему-то научиться у латинян. Здесь, Георгий Схоларий, хоть и менее влиятельный, но все-таки заслуживает место рядом с Цицероном.
Этапы латинского принятия греческой философии
Главные этапы латинского заимствования греческой философии хорошо известны истории философии. Тем не менее, позвольте мне повторить. Итак, греческое влияние происходило в пять этапов.
Первый этап
В первом веке до Р.Х. Цицерон, Варрон и Лукреций предприняли попытку сделать греческую философскую мысль доступной на латинском языке. Сенека был их последователем в первом веке христианской эры.
Первый этап характеризуется просветительской целью — целью обучить нефилософский латинский мир. Римские авторы, особенно в эпоху Цицерона, сами считали, что латинскому миру свойственно лишь заимствовать: латинский ум пассивен — это tabula rasa, которая должна получить отпечаток греческого интеллекта. Другая характеристика первого этапа — это практически полное отсутствие переводов. Кроме перевода Цицерона большей части Платоновского Тимея, не было переведено ни одного текста кого-либо из известных философов, ни даже мыслителей второго ранга. Все, что мы находим — это популяризированные изложения греческой философии, произвольно заимствуемые из греческой основной и второстепенной литературы.
Греческая культура, бесспорно, была доминирующей в то время. У греков было принято иметь профессиональных философов еще с четвертого века до Р.Х. К 161 году до Р.Х. философы достигли Рима — известно решение сената этого года об изгнании их из города.2
Интерес, с которым высшие эшелоны римского общества встречали посольство известных философов, через какие-то пять лет мог указывать на то, что Рим был готов принять философскую культуру, создать класс латинских философов и, возможно, однажды быть способным соперничать с греками. Гелий говорит нам, что три «философа — Карнеад из Академии, стоик Диогнес и перипатетик Критолай — использовали сенатора Акилия в качестве переводчика, когда они появились в сенате, но до того, как это произошло, каждый из них провел отдельную обзорную лекцию, притягивающую многочисленную публику».3 Это событие показывает, что греки в сенате должны были произносить свои речи на языке своих политических хозяев, но за пределами сената представители доминирующей культуры могли выступать на своем собственном языке и быть понятыми представителями зависимой культуры — включая, без сомнения, нескольких сенаторов, которые спустя короткое время настаивали бы на использовании переводчика в сенате.
Первый этап не оставил ни самостоятельной латиноязычной философской традиции, ни даже заметной традиции несамостоятельных философских работ на латинском языке. В течение нескольких веков греческий язык оставался единственным языком образования. Римляне с философскими интересами, такие как Мусоний Руф и Марк Аврелий, были склонны изъясняться по-гречески. Единственно известной жертвой изгнания философов из Рима и всей Италии императором Домицианом был грек Эпиктет.4
Историческая значимость первого этапа заключается в основном в демонстрации того, что появилась возможность обсуждать философские вопросы на латинском языке. Цицерон и его современники сделали для латинского языка то, что Николай Орезмский и другие деятели четырнадцатого века сделают для западных наречий: они подготовили почву для того дня, когда монополия одного выученного языка будет сломана.
Первый этап способствовал тому, что элементы греческой морали, в частности, стоической морали, стали частью интеллектуального багажа любого образованного человека. Цицерон и Сенека открыли доступ к этой части образования вне зависимости от владения греческим языком. Амвросий и другие Отцы Церкви уже имели немалую толику стоической этики в своем багаже. Это должно было сыграть свою роль во времена латинского Средневековья.
Второй этап
Он охватывает период примерно от 350 до 525 года.5 В действительности, это был очень сложный этап, но позвольте мне выделить три основных компонента. Первым компонентом стали переводы и переложения аристотелевского Organon и связанных с ним работ. Самым известным и, безусловно, для последующих поколений самым важным переводчиком и редактором был Боэций (консул в 510 году), который ясно видел себя вторым Цицероном, принесшим греческую философию в Латиум.
Вторым компонентом было составление обширной научной грамматики латинского языка Присцианом в Константинополе вскоре после 500 года. Грамматическая теория, подробно и полностью изученная Присцианом, почти полностью происходит от работ Аполлония Дискола, грека из Александрии, жившего во втором веке нашей эры. В случае с Присцианом очевидно — то, что он был назначен на должность учителя латыни на высоком уровне в Константинополе, и положило начало усвоению греческой теории. В поздней античности константинопольская культура была двуязычной (греко-латинской) в такой мере, в которой больше это не встречалось в истории ни до, ни после. Занимательно, что тот же Флавий Теодор (Flavius Theodorus Dionysii), который в 527 году создал копию Institutiones grammaticae Присциана, также является автором копии работы по логике Боэция. Флавий Теодор работал в Константинополе.6
Третьим компонентом было знакомство с неоплатонической мыслью. Основной средой для нее стали богословские произведения, ярчайшими из которых были труды Августина (354-430 гг.)
Боэций и другие переводчики сами не были новаторами в философии, и их усилия были мало заметны современникам; только спустя века латинский мир пожнет плоды их тяжелого труда в форме новой философской идеи. То же самое можно сказать и о грамматике Присциана. Августин был и посредником и новатором — и несмотря на то, что у него не сразу появились последователи, он положил начало живой традиции латинского философского богословия.
Третий этап
После нескольких поистине темных веков высшее образование стало возвращаться на Запад во времена Карла Великого. Около конца десятого века движение стало набирать скорость; начинался бум высшего образования, бум, который продолжается до сих пор. Примерно на это время приходится третий этап. Не через новые переводы, но благодаря работам Боэция и его переводам, корпус Ars Vetus приобрел статус образцовых текстов в области высшего образования. Ars Vetus — это урезанный Органон, состоявший из «Введения» Порфирия, а также «Категорий» и «Об истолковании» Аристотеля. Вдохнув новую жизнь в Боэция, тотчас же вспомнили и о его современнике Присциане.7
В ходе десятого, одиннадцатого и начала двенадцатого веков на почве, удобренной древнегреческой философией, выросла особая местная традиция — латинская. Она была схоластической — так же, как и греческая философия, по меньшей мере, со второго века нашей эры — то есть в том смысле, что основой для обучения и дискуссии был небольшой набор авторитетных книг. Ars Vetus, логические монографии Боэция и грамматика Присциана стали главными текстами молодой западной схоластики — но было и много других источников вдохновения. Все ключевые тексты включали греческую теорию, но это не был догматически унифицированный набор текстов, к тому же, он отличался от того, что было в Восточной Империи.
В итоге, естественная традиция латинской философии имела следующие характерные особенности:
1. Она была аналитической. Здесь мы видим доскональный анализ суждений и понятий, высказываний и терминов, настойчивые попытки прояснить отношения между словами, понятиями и теми реальностями, что лежат вне сферы познания.
2. Она была лингвистической, как в смысле интенсивного интереса к философии языка, так и в том смысле, что философия, хоть и не копировала грамматику, но все же сильно зависела в своих аналитических инструментах и процедурах от грамматического исследования.
3. Она была логической в том смысле, что одним из любимых занятий философов было составление логических правил и исследование, насколько хорошо новые и традиционные правила работали в экстремальных условиях. Она была логической также и в том смысле, что философы тратили невероятные усилия на то, чтобы вскрыть структуру аргументации — как своей, так и оппонентов.
4. Она была имагинативной. Люди были склонны выдумывать странные фразы и ставить мыслительные эксперименты для проверки гипотез. Почитающие классические языки люди не боялись пойти дальше древних писателей. Они отзывались о них как о гигантах, сидя на плечах которых, можно смотреть дальше, чем сами древние авторы.
5. С раннего времени было понимание философии как отличающейся от богословия науки, хотя это отличие и не обрело законный статус до конца двенадцатого или начала тринадцатого века. В то же время, однако, было широкое одобрение использования философского метода в богословии, а также ответная реакция, ведущая к усвоению философских контекстов некоторых впервые возникающих вопросов и разрабатываемых умозрительных методик в богословии. Богословы-иррационалисты, как Бернар Клервосский (1090-1153 гг.) не пользовались большим успехом.
Философия, появившаяся на третьем этапе греческого влияния, достигла зрелости в двенадцатом веке с приходом таких людей, как Пьер Абеляр (1079-1142 гг.), Альберик Парижский, Адам из Бэлшема (Parvipontanus) и Жильбер из Пуатье (он же Гильберт Порретанский, ум.1154 г.). Приведу несколько примеров того, как они работали.
Возможно, самая известная область работы Абеляра — это его размышления о сигнификации и универсалиях.8 В поисках решения проблемы, чьи корни очевидным образом уходят к Порфирию и глубоко в древнегреческую философию, Абеляр взял на вооружение аристотелевскую иерархию родов и видов и его схему сигнификации из De interpretatione (а впоследствии еще и порфириевский взгляд на слова второй импозиции как на металингвистические слова, имена имен) — и плюс еще ряд вещей. Так он и несколько его ближайших современников создали номинализм, подобие которого мир еще не видел: настоящий и вполне последовательный номинализм. Новое квази-бытие, обстоятельство (status) существования человека, стало служить в качестве разделяемого среди индивидуумов, охватываемых общим термином «человек», в то время как слово в своем значении различалось от слова, только сформированного фонетически. Другое квази-бытие, dictum propositionis, или enuntiabile, стало тем, что означают суждения.9
Никогда со времени Хрисиппа — третий век до Р.Х.! — сигнификация не исследовалась так тщательно. И редко кто из философов с тех пор излагал свои взгляды в столь дерзкой манере. Каждая из философских школ двенадцатого века имела перечень парадоксальных утверждений, столь же неистовых, как парадоксы стоицизма («Только мудрец богат» и т.д.). Взять хотя бы один пример: номиналисты определили тезис, что ничего не растет. Это же наглая ложь! Но, если бы у кого-то хватило интереса спросить номиналиста, что, ради всего святого, он имел в виду, заявляя такую чушь, номиналист познакомил бы его с проблемой тождественности. Номиналисты приводили такой аргумент: вещь равна сумме ее частей, рост — это добавление частей, следовательно, результат роста — вещь, отличная от прежней. Эта аргументация уничтожает тождественность между подростком и взрослым. Чтобы исправить урон от своих же аргументов номиналисты использовали понятие лица: лицо (persona) может расти, сохраняя свою идентичность, но оно становится новой вещью (essentia).
В «Этике» Абеляра основной носитель предикативных качеств нравственности — это намерение действующего лица, его сознательное согласие на действие в некотором роде. Определяя основого носителя предикатов нравственности, Абеляр исключает разных благовидных кандидатов путем контрпримеров. Придумывая такие примеры, он мог проявлять недюжинное воображение. Так, в качестве дополнительного аргумента к тезису, что намерение действующего лица является решающим в нравственном характере действия, он спрашивает, правда ли, что сексуальное удовольствие, безусловно, является грехом, и рисует картину: монаха, который связан цепями и положен в постель с женщиной. Предположим, — говорит он, — что мягкость кровати и контакт с женщиной принуждает монаха испытывать удовольствие, но не давать свое согласие. Тогда кто осмелится поставить ему в вину то удовольствие, что происходит по естественной необходимости?!10
Понятийный аппарат этики Абеляра имеет древние корни — корни греческие и, в частности, стоические. Несмотря на особый, христианский оттенок его peccatum, легко просматривается связь со стоическим ἁμάρτημα. Существует некоторый извилистый исторический путь, соединяющий его consensus со стоическим συγκατάθεσις. Контрпример против конкретного тезиса — это мысленный эксперимент Абеляра в его Ethics. Целью ветви логики двенадцатого века было разработать методику поиска контраргументов (instantia) против абсолютно любого аргумента!11
Чистая логика интенсивно развивалась, но я здесь не буду приводить примеры. Позвольте мне лишь упомянуть новую ветвь логики, которая начала развиваться в двенадцатом веке: логика «синкатегорематических» слов, то есть слов, у которых не существует предмета для соотношения. Более того, они даже не претендуют на существование такого предмета. Синкатегорематика включает традиционные «логические слова» — квантификаторы (omnis, quidam, nullus), отрицание non, и модальные операторы (necessario и т.д.) — плюс такие слова, как «ли», «оба», «кроме», «только» (an, uterque, praeter, tantum), а также много других.12 Источниками вдохновения были частично анализы союзов и предлогов Присциана (и через него мы видим связь со стоиками), а частично задачи, поставленные вследствие некоторых богословских высказываний.
К двенадцатому веку латинская философия, хотя и оставалась в неоплатном долгу перед греческой мыслью, освободилась и покинула свой дом, чтобы обосноваться в Париже. Она была смышленой дочерью умной матери, почитала свою мать, но делала намного больше простого подражания ей.
Возникает вопрос: как поживала ее мать? Если ответить кратко, то она старела. Около 600 года она забросила свою александрийскую резиденцию и переехала в Константинополь — этот своего рода дом престарелых: здесь периодически заботились о жильцах, но забывали о них во все остальное время. Она до сих пор ничему не научилась от своей дочери, но ее можно простить за это. В действительности, не было ничего важного, чему можно было бы научиться. Византийский мир не смог построить философское окружение, которое могло бы пережить смерть учителя или временное безразличие империи к экономическому благосостоянию философов; так и на Западе ситуация не слишком отличалась. В Рождественскую ночь 1100 года тревожные колокола должны были зазвонить в Константинополе. Наставало время маме прислушаться к своей дочери.
Но она не услышала. Вероятно, греческие мыслители продолжали верить, что их культура была доминирующей, хотя территория, на которой греческий язык был языком высокой культуры, начиная с седьмого века, неуклонно уменьшалась. Только Константинополь и Фессалоники оставались важными центрами, а область, с которой можно было собрать новых ученых, стала жестко ограниченной. В то же время, латинский язык уже распространился на всю Центральную и Северную Европу. Школы Франции и Италии могли набирать студентов из столь отдаленной Скандинавии, а также извлекать пользу от структуры западного общества с его стабильной церковной властью, по сравнению с более неустойчивой мирской.
К 1100 году латинский мир стал главным производителем интеллектуальных благ. Но все же, насколько мне известно, нет признаков того, что кто-либо в Византии начал учить латинский, чтобы посмотреть на возможные новые открытия своих западных коллег. В то же время парадоксально, но латинский мир приближался к четвертому этапу греческого влияния.
Четвертый этап
Образующая фаза латинской схоластики черпала вдохновение из многочисленных греческих источников, но Аристотель и его традиция экзегезы формировали западную школу больше, чем что-либо другое. Таким образом, когда началось активное движение в двенадцатом веке, естественным для латинян было искать больше Аристотеля и его толкований. И впервые за 600 лет они установили контакт с живыми греческими мыслителями.13
Равно как латинские страны стали обращаться к образованности и философии около 800 года, так и Византия; и так же как латиняне искали больше Аристотеля в начале двенадцатого века, так и некоторые греки. В принципе, весь Аристотель был доступен в Константинополе, но на практике — только несколько общеизвестных работ. Даже если кому-то удавалось раздобыть копию подлинного текста Топик или Метафизики Стагирита — в этом было мало пользы, если отсутствовал комментарий, проясняющий все столь характерные для Аристотеля темные места.
Судя по всему, не без финансовой поддержки Анны Комниной Евстратий Никейский и Михаил Эфесский проделали огромную работу, завершив те неполные комментарии, что передавались из поколения в поколение, а также написав с чистого листа ряд новых — к тем работам, для которых с давних времен комментариев не было, даже неполных. Михаил все еще работал над проектом, когда в один из дней, возможно в 1120-х или 1130-х годах, в дверь к нему постучал незнакомец. Звали его Иаков, и был он человек неординарный: одной ногой в латинском, а другой — в греческом мире. Он был венецианцем, но в то же время был и греком: себя он именовал Jacobus Veneticus Grecus. В общественной полемике об исхождении Святого Духа, которая происходила в Константинополе в 1136 году, он был членом латинской делегации. В другое время мы находим его в Италии.14
Иаков начал или собирался начать переводить кое-что из Аристотеля с греческого на латинский — и то, что ему было нужно, имелось у Михаила: как рукописи Аристотеля, так и комментарии. Перевод Иакова дал латинянам доступ к таким шедеврам как «Вторые аналитики», «Физика» и «Метафизика». Но больше всего привлекли их внимание «Софистические опровержения».15 Это и понятно, потому что среди всех предыдущих неизвестных аристотелевских произведений эта книга со своим анализом ложных доказательств была самой интересной для латинских аналитических философов. Самое забавное то, что никто не пользовался переводом Иакова. Все использовали Боэция, который был забыт на шесть столетий и сейчас вдруг чудесным образом объявился. Тем не менее, именно Иаков обеспечил прямой доступ к вновь найденному тексту. Он оказал помощь читателям «Опровержений» своим переводом комментариев Михаила Эфесского.16 Таким образом, Михаил, будучи византийским схоластом, отметился в поздней средневековой схоластической логике на Западе.
Несмотря на все хорошее, что можно сказать о Михаиле, он был компилятором без особой философской индивидуальности. Предметом его комментариев была классификация полисемии или многозначности в действительной, потенциальной и воображаемой полисемии (διττὸν ε̉νεργείÈ, δυνάμει, φαντασίÈ: multiplicitas actualis, potentialis, fantastica); она глубоко укрепилась в западной традиции. Эта теория содержится в латинских текстах наряду с другими, но в работе Михаила знакомство с классификацией не имеет продолжения в теории полисемии; это просто отдельна взятая идея из отдельно взятого отрывка, извлеченного из трудов древнего Галена.17
После некоторой неясности в двенадцатом веке касательно того, как интегрировать новый аристотелевский материал, латинские схоласты тринадцатого века при помощи арабских аристотелевских философов пришли к такому толкованию Аристотеля, в котором, по сравнению с прошлым веком, было в одно и то же время больше и аристотелизма и неоплатонизма. Примерно до 1280 года они еще продолжали получать новые переводы; к тому времени латинский Corpus Aristotelicum был закончен, а также были переведены важные древние комментарии.18 Но помимо комментариев Михаила на Elenchi, на Западе была сделана только одна практически современная греческая работа: собрание комментариев на «Этику», известное под именем Евстратия — фактически, составная работа, главная часть которой была сделана благодаря Михаилу Эфесскому.19
Было слишком поздно радикально менять курс латинской философии. Исследовались новые вопросы, и Аристотеля люди читали уже по-другому, но остался аналитический подход, и новые направления философии, развившиеся в двенадцатом веке, — особенно в логике — выжили в новом контексте, хотя и отошли, по большей части, от толкования Аристотеля.
Четвертый этап греческого влияния оставил за собой своего рода шизофрению среди латинских авторов: в некоторых философских жанрах продолжала жить родная традиция, в других она заменилась подходом, который уделял меньше внимания частностям, а больше универсалиям, онтологическим иерархиям и самой возможности допустить растворение личного разума в море некоего универсального интеллекта.20
Эта шизофрения была тем, с чем боролись номиналисты четырнадцатого века, в большей части полагаясь на родную латинскую традицию третьего этапа, чем на ту, которая появилась на четвертом. Они не чувствовали нужды в большем количестве переводных текстов, и в течение века ни одного не было сделано.21 В то же время перевод «Начал теологии» (Elementatio theologica) Прокла, сделанный в тринадцатом веке, оказался вирусом в теле латинской схоластики: она постепенно стала все больше тосковать по платонизму.
Окончательный этап
Запад все-таки получил больше платонизма. Он пришел, разумеется, вместе с движением, которое мы обычно называем эпохой Возрождения. Последний большой этап греческого влияния достиг берегов Италии около 1400 года и через 150 лет охватил весь Запад. Я думаю, что влияние на латинскую философию было очень сильным, но описать это не так просто.22 Ситуация на философской сцене стала еще более запутанной, чем раньше. Не только открылся огромный выбор греческих текстов от Платона и Плутарха до Льва Магентинского тринадцатого века, но появились и новые ученые, которые хоть и не были академиками, но баловались философией параллельно со своими литературными занятиями. Эти непрофессиональные философы или «как-бы философы» в своих существенных чертах напоминали характерный для Византии тип ученых мужей, которые никогда не были академическими философами по той простой причине, что для них не было академии, которую они могли бы окончить и где могли бы впоследствии преподавать.
Эпоха Возрождения — это беспорядочный период. Его красота зачастую раскрывается не в коллективных достижениях, но в индивидуальном уровне его авторов. Вспомним кардинала Никейского — он же Виссарион (ок.1402-72): философ не ахти, но человек с хорошей подготовкой, серьезно интересовался философией — и свободно вращался как в латинской, так и в греческой среде.
Латинское влияние на греческих мыслителей
Виссарион был представителем класса греков, которые, не теряя преданности родной культуре, стали понимать, что латинская культура перешла от зависимой к доминирующей — по крайней мере, уже не считалась варварской.
До одиннадцатого века греческая культура была доминирующей. В двенадцатом чаша весов перевесила, но, похоже, что никто этого не замечал вплоть до тринадцатого века. По всей видимости, образованные греки двенадцатого века продолжали относиться к латинянам как к представителям зависимой культуры, также считали и латиняне; по меньшей мере, они еще не чувствовали, что их культура была доминирующей. Они стали так считать в тринадцатом веке, и все же греческое прошлое не позволяло им в полной мере гордиться своим превосходством.
Четвертый крестовый поход не только заставил греческий мир осознать, что Запад сильнее в экономическом и военном плане, но также не позволил греческим мыслителям игнорировать западное научное сообщество и его достижения. Сам принцип университета не укоренился в греческом мире, но латинские школы определенного, не самого начального уровня, а также франки с университетской степенью или ее аналогом, полученным в церковном учебном заведении, стали достаточно распространенным явлением на Востоке.23 Кто-то из них учил греческий язык, а кто-то из греков учил латинский. Латинская волна стала подтапливать греческую интеллигенцию, а некоторые даже окунулись в нее с головой.
Я напрасно искал явные признаки латинского влияния у Никифора Влеммида24 и могу добавить, что тщательное исследование греческих произведений о софизме, которое я провел в 1970-х годах, не показало ни одного заимствования из латинской традиции до пятнадцатого века. С другой стороны, уже в тринадцатом веке были люди, которые переводили латинские философские тексты на греческий язык. Это были хоть и не современные, но авторитетные латинские тексты: «О топических различиях», «О гипотетических силлогизмах» и «Утешение философией» Боэция, а также «Сон Сципиона» Макробия.25
Выбор интересен. Во-первых, переведенные тексты весьма короткие. Это предполагает, что переводчики выбирали тексты, которые могли быть включены в программу обучения. Во-вторых, это были латинские классические, а не современные тексты. Это не удивительно. Западники действовали также — за исключением нескольких новейших комментариев Аристотеля они переводили только древние auctores. Более того, с переводом нескольких латинских auctores греческий мир получил бы доступ к большинству авторитетных философских текстов, используемых на Западе, так как большинство из них были изначально греческими. Единственным серьезным недостатком было отсутствие перевода Аверроэса и Авиценны. Правда, наблюдалась нехватка современной книги по логике, но даже если бы византийский схоласт понял, что его культуре может понадобиться справочник, включающий такие предметы, как «свойства терминов» (proprietates terminorum), ему не было бы ясно, что переводить. К концу тринадцатого века Summulae Петра Испанского только начинали становиться классикой.26
С другой стороны, есть еще кое-что странное в сделанном выборе: эти тексты не были университетскими. Ни «Утешение» Боэция, ни Макробий не встречались ни в одной нормальной университетской программе и эти две логические работы были совершенно маргинальными в образовании конца тринадцатого века. Примечательно, что самый плодовитый переводчик, Максим Плануд (ок.1255 — ок.1305), перевел Ars grammatica Доната, Metamorphoses и Heroides Овидия, а также Disticha Catonis. Это были тексты, которые преподавались на уровне кафедральной школы.
Два других перевода Плануда — богословские. De Trinitate Августина и Summa theologica Фомы Аквинского соответствуют не аудитории приходской школы, а, скорее, богословской школе доминиканцев (studium).27 Плануд и Мануил Олобол (fl.1267 г.), переводчик двух небольших логических трактатов Боэция, при выборе того, что переводить, возможно, следовали мнению латинян, обосновавшихся в Константинополе. Первое, что приходит в голову, — это доминиканское подворье, существовавшее в городе с 1232 года.
В четырнадцатом веке латинское влияние на греческий философский дискурс все еще кажется слабым. В богословии это влияние сильнее. В исихастских спорах 1330-х годов не только Варлаам Калабрийский (ок.1290-1348 гг.) вносит латинский подход, но даже его противник Григорий Палама (1296-1359 гг.) использует заимствования из Августина. Это ярко продемонстрировано Деметракопулосом (1997 г.), который далее утверждает, что Палама перенял стоическое разделение знаков на указывающие (6νδεικτικόν) и напоминающие (7πομνηστικόν) у Секста Эмпирика.28 Один из примеров Паламы бесспорно восходит к Сексту, но не его описание этой идеи. Палама различал естественные и неестественные символы: φυσικòν σύμβολον, μὴ φυσικòν σύμβολον. Терминология отсылает не столько к Сексту, сколько к Августину, чье различение естественных и неестественных знаков было широко известно в латинской схоластике, но обычно выражалось как разделение на signa naturalia и «условные знаки» с различиями в терминологии последних (ex institutione, ad placitum и другие выражения).
Конечно, даже если мое подозрение о латинском происхождении естественных символов Паламы верно, это действительно показывает силу латинского влияния. По крайней мере, это показывает, что латинский философский аппарат проник в структуру мышления греческих интеллектуалов.
Я не поклонник Паламы, но пара мыслителей из Фессалоник для меня стали кумирами. Это Димитрий (ок.1324-1397/8 гг.) и Прохор (ок.1333-1369/70 гг.) Кидонисы.29 В то время как Плануд не имел преемников в Константинополе, братья Кидонисы из Фессалоник продолжили его труд, переводя важные латинские тексты на греческий язык: это было то, что нужно, чтобы грекам нагнать в развитии — как прежде, с античных времен, латиняне переводили греческие работы.
Братья Кидонисы переводили богословские работы (Августина, Аквината, Эрве из Неделека и других), большинство из которых имели значительное количество философского содержания. Но латинские тексты чисто философского характера в четырнадцатом веке не переводились на греческий в сколь-нибудь значительных объемах, и то, насколько влиятельными были несколько имевшихся работ или какой эффект производили латиноязычные школы — это вопрос спекулятивный. В начале 1430-х годов Георгий Схоларий (ок.1400-1472/4 гг.), также известный как Геннадий, уверяет нас, что когда он начал преподавать курс латинской философии в своей школе, это было новшеством, — и дает нам понять, что его ученики имели трудности понимания «чуждой и иностранной терминологии» (ξέναι καὶ 7περόριοι φωναί).30 Нет причины ему не поверить.
Схоларий не только следует протоптанной тропинкой, переводя все больше Фому Аквинского. Он перевел почти все необходимое для школы свободных искусств университетского уровня, которая следовала viam Thomae: Liber sex principiorum — Summulae Петра из Испании, но с трактатом Фомы о софизмах, вставленным вместо аналогичного трактата Петра; комментарии на Ars Vetus, в основном взятые у Радульфа Бритона, известного парижского мэтра последнего десятилетия XIII в.; комментарии Фомы на De anima и «Физику» — De ente et essentia.31
В целом, Схоларий не пользовался особым успехом, и могло показаться, что падение Константинополя все же положило решительный конец латинскому влиянию на греков. Но это едва ли верный взгляд на вещи. С одной стороны, у нас остается очень интересная среда в Италии второй половины пятнадцатого века, где греческие ученые-эмигранты не только учили латинян, но и сами учились латинской философии. С другой стороны, латинское влияние на греческой территории продолжалось и в течение Оттоманского периода. Феофил Коридалевс (1572-1646 гг.), пройдя подготовку в Риме и Падуе, одарил своих соотечественников рядом работ на греческом языке, и они действительно были в ходу, что доказывает значительное количество рукописей семнадцатого и восемнадцатого веков. С аристотелизмом Коридалевса греческий мир стал ближе к Западу в двух отношениях. Во-первых, работы Коридалевса содержали идеи, впервые сформировавшиеся на латыни. Во-вторых, у греков появилась возможность участвовать в движении «назад к Аристотелю» — движении, которое захватило латинские школы, после того как они вкусили пагубные плоды от попыток забыть Философа в шестнадцатом веке.
Заключение
Хотя греческая философия и влияла на латинскую философию и наоборот, но основная тенденция влияния была все же односторонней в каждый отдельно взятый период. Обстоятельств, при которых греческим и латинским схоластам удалось бы встретиться, было мало. Такое могло быть в древнем Риме, но так как тогда не существовало местной римской философии, то это едва ли изменило греческую философию. Константинополь поздней античности, безусловно, предложил возможность обмена, но, опять же, латиняне мало что могли дать. Когда у них, наконец, было что предложить, прошло некоторое время перед тем, как греки это заметили. Однако во второй половине тринадцатого века струйка латинской мысли начинает вливаться в греческую среду. Необходимо продолжить исследования, чтобы определить важность этой тонкой струйки в тринадцатом-пятнадцатом веках — так же, как и в более позднее время. Только в Италии пятнадцатого века мы находим заметное число мыслителей двух языковых групп, которые, действительно, общаются друг с другом, читают книги друг друга (классические или только лишь написанные) и оказываются под воздействием традиций и взглядов другой стороны.
БИБЛИОГРАФИЯ
Beck, H.-G. (1959), Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich (Byzantinisches Handbuch, 2/1; Handbuch der Altertumswissenchaft, 12/2/1; Munich).
Browning, R. (1962), 'An Unpublished Funeral Oration on Anna Comnena', Proceedings of the Cambridge Philological Society, 188 (NS 8): 1-12. Repr. in Browning, Studies on Byzantine History, Literature and Education (London, 1977). Also repr. in Sorabji 1990.
Cavini, W. (1977), 'Appunti sulla prima diffusione in occidente delle opere di Sesto Empirico', Medioevo, 3: 1-20.
Christou, P. K., Bobrinsky, B., Papaevangelou, P., and Meyendorff, J. (eds.) (1962), Γρηγορίοι του̃ Παλαμα̃ Συγγράμματα, i (Thessaloniki).
CIMAGL = Cahiers de l'Institut du Moyen Age Grec et Latin, Université de Copenhague.
CLCAG = Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum.
Copenhaver, B. P., and Schmitt, C. B. (1992), Renaissance Philosophy = A History of Western Philosophy, iii (Oxford and New York).
Courtenay, W. J. (ed.) (1992), Acts of the 1991 Madison Conference on Medieval Nominalism, Vivarium, 31/1: 1-215.
De Libera, A. (1993), La Philosophie médiévale (Paris).
- (1996), La Querelle des universaux: De Platon à la fin du Moyen Age (Paris).
De Rijk, L. M. (1962-7), Logica Modernorum, i-ii (vol. ii in 2 parts) (Assen).
- (ed.) (1972), Peter of Spain, Tractatus, called afterwards Summule Logicales (Wijsgerige teksten en studies, 23; Assen).
Demetracopoulos, J. (1997), Αυγουστίνος και Γρηγόριος Παλαμάς (Athens).
Dod, B. G. (1982), 'Aristoteles Latinus', in Kretzmann et al. (1982: 43-79).
Dronke, P. (ed.) (1988), A History of Twelfth-Century Western Philosophy (Cambridge).
Ebbesen, S. (1981), Commentators and Commentaries on Aristotle's Sophistici Elenchi: A Study of Post-Aristotelian Ancient and Medieval Writings on Fallacies, i-iii (CLCAG 7/1-3; Leiden).
- (1992), 'Western and Byzantine Approaches to Logic', CIMAGL 62: 167-78.
- (ed.) (1995), Sprachtheorien in Spätantike und Mittelalter (= P. Schmitter, ed., Geschichte der Sprachtheorie, 3; TuÈbingen).
- (1996a), 'Greek and Latin Medieval Logic', CIMAGL 66: 67-95.
- (1996b), 'George Pachymeres and the Topics', CIMAGL 66: 169-85.
- (1996c), 'Anonymi Parisiensis Compendium Sophisticorum Elenchorum. The Uppsala Version', CIMAGL 66: 253-312.
- (1998), 'The Paris Arts Faculty', in J. Marenbon (ed.), Medieval Philosophy = Routledge History of Philosophy, iii (London and New York), 269-90.
- (forthcoming), 'The Role of Aristotle's Sophistici Elenchi in the Creation of Terminist Logic'.
Ebbesen, S., and Pinborg, J. (1981-2), 'Gennadios and Western Scholasticism: Radulphus Brito's Ars Vetus in Greek Translation', Classica et Mediaevalia, 33: 263-319.
Iwakuma, Y. (1987), 'Instantiae: An Introduction to a Twelfth Century Technique of Argumentation', Argumentation, 1: 437-53.
Kneepkens, C. H. (1995), 'The Priscianic Tradition', in Ebbesen (1995: 239-64).
Kretzmann, N. (1982), 'Syncategoremata, exponibilia, sophismata', in Kretzmann et al. (1982: 211-45).
- Kenny, A., and Pinborg, J. (eds.) (1982), The Cambridge History of Later Medieval Philosophy (Cambridge).
Luscombe, D. E. (ed. and tr.) (1971), Peter Abelard's Ethics (Oxford).
Marenbon, J. (1997), The Philosophy of Peter Abelard (Cambridge).
Megas, A. (ed.) (1995), Μαξίμου Πλανούδη (±1255 - ±1305) Του υπομνήματος εις το "Ονειρον του Σκιπίωνος" μετάφραση. Λατινο-ελληνική Βιβλιοφήκη 8 (Thessaloniki).
Mercken, H. P. F. (1973-91), The Greek Commentaries on the Nicomachean Ethics of Aristotle, i, iii (CLCAG 6/1 and 6/3; Leiden).
Minio-Paluello, L. (1952), 'Iacobus Veneticus Grecus: Canonist and Translator of Aristotle', Traditio, 8: 265-304. Repr. in Minio-Paluello, Opuscula, The Latin Aristotle (Amsterdam, 1972).
Nikitas, D. Z. (ed.) (1982), Eine byzantinische Übersetzung von Boethius' 'De hypotheticis syllogismis' (Hypomnemata, 69; Göttingen).
- (ed.) (1990), Boethius De topicis differentiis καὶ οι̉ βυζαντινὲς μεταφράσεις τω̃ν Μανουὴλ 'Ολοβώλου καὶ Προχόρου Κυδώνη (Philosophi Byzantini, 5; Athens).
Obertello, L. (1974), Severino Boezio, 2 vols. (Collana di monographie, 1, Accademia ligure di scienze e lettere; Genoa).
Papathomopoulos, M. (ed.) (1999), Anicii Manlii Severini Boethii De consolatione philosophiae. Traduction grecque de Maxime Planude (Philosophi Byzantini, 9; Athens).
Petit, L., Sideridès, X. A., and Jugie, M. (eds.) (1928-36), Œuvres complètes de Gennade Scholarios, 8 vols. (Paris).
Schabel, C. (1998), 'Elias of Nabinaux, Archbishop of Nicosia, and the Intellectual History of Later Medieval Cyprus', CIMAGL 68: 35-52.
Sorabji, R. (ed.) (1990), Aristotle Transformed: The Ancient Commentators and their Influence (London).
Van de Vyver, A. (1929), 'Les Étapes du développement philosophique du hautMoyen-Age', Revue belge de philologie et d'histoire, 8/2: 425-52.
