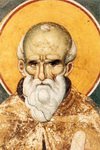
II.b. Дух, душа и буква
Прежде чем рассмотреть вопрос об отношении прп. Максима к экзегезе св. Иоанна Златоуста, хотелось бы кратко очертить ту историческую перспективу, в рамках которой эта проблема может быть поставлена наиболее остро. Дело в том, что в течение нескольких столетий (видимо, как минимум, до XI в.) после VII в., в котором жил прп. Максим, его писания (не те, что касались полемики с монофелитством, а такие, как Вопросы и недоумения или Трудности к Иоанну, то есть «созерцательные») оставались мало востребованными[1]. Сам метод, применявшийся прп. Максимом в толковании Священного Писания был, похоже, чужд и казался искусственным. Это видно хотя бы по отзыву патр. Фотия на экзегетические сочинения прп. Максима (правда, следует подчеркнуть, не на Вопросы и недоумения, а на Вопросоответы к Фалассию): «он скоро утомляет даже своих старательных читателей тем, что решения вопросов (по Писанию) у него придумываются далекие от буквального смысла и известной истории, а вернее – от самих вопросов. Впрочем, если кому приятно вращать свой ум в иносказаниях и созерцаниях, тот нигде не найдет более разнообразных, чем здесь»[2]. Хотя, как замечает, обративший внимание на этот отзыв М. Д. Муретов, патр. Фотий чуть дальше пишет, что в свои толкования прп. Максим вложил много старания, искусности, благочестия и любви ко Христу, но, в целом, отзыв великого Фотия говорит об определенном сдвиге в подходе к толкованию Писания, происшедшем в период между ним и прп. Максимом, при том, что в значении св. Фотия и других отцов VIII–IX вв. никто не сомневается.
Суть этого сдвига была недавно сформулирована Николасом Констасом[3], который отметил, что, если в Александрийской школе темные места Писания были поводом для аллегорического толкования, то свт. Фотий настаивает на том, что такие места следует прояснять не посредством аллегорического толкования, но с помощью словарей и грамматики. Там где для Оригена Cвященное Писание предоставляет возможность для анагогического толкования, патр. Фотий практически исключительно прибегает к буквально-историческому, у него исчез «интерес к присутствию мистического тела Слова; аллегорический мистицизм оказался замещенным дисциплинированной филологией, а текст – особенно там, где он удивляет и провоцирует читателя – систематически демистифицируется и демифологизируется»[4]. В целом, Констас считает, что в период борьбы за иконопочитание, возможно, не без влияния отказа от аллегоризма в иконописи (провозглашенного еще в 82 каноне Пято-шестого Собора в 692 г.), метод аллегорического, анагогического и даже типологического толкования Писания почти целиком уступает историческому и буквальному, то есть принципы Антиохийской школы экзегезы, несмотря на поражение антиохийцев в великих христологических спорах VI в., снова становятся главенствующими[5].
Прп. Максим, таким образом, оказывается, едва ли не последним великим представителем той традиции, которая (если говорить о Византии) на нем и прерывается[6]. Тенденции к вытеснению и забвению этой традиции, очевидно, имели место уже при жизни прп. Максима[7], и именно этим можно объяснить то, что он в принципе осуществил такой масштабный (если иметь в виду не только Qu. dub., но и Трудности к Иоанну, и Вопросоответы к Фаласссию, не говоря уже о малых сочинениях) проект истолкования Св. Писания и писаний некоторых отцов Церкви в духовном, анагогическом смысле.
В чем в этом плане специфика Qu. dub. по сравнению с другими экзегетическими сочинениями прп. Максима? В первую очередь в том, что в таком, относительно раннем его творении мы встречаем во множестве толкования не только анагогические, созерцательные и даже не только типологические (которые у него встречаются и в других произведениях), но и буквально-исторические. Очень часто прп. Максим дает оба толкования; при этом, как мы убедились на примере толкования истории про пророка Елисея, детей и медведиц, и в буквальных толкованиях Писания прп. Максим дает далеко не тривиальные трактовки, расходящиеся с более распространенными, некоторые такие примеры мы еще приведем. Более того, порой прп. Максим в Qu. dub. дает только буквальное толкование[8], объясняя значение слова[9] или исторические обстоятельства[10], хотя и у таких толкований часто бывает своя духовная подоплека[11].
В контексте такого, вполне гармоничного сосуществования буквально-исторических, типологических и духовно-анагогических толкований в Qu. dub. тем более интересно задаться вопросом об отношении прп. Максима к антиохийской экзегетической традиции и школе богословия. Собственно, из всех выходцев этой школы он упоминает в своих экзегетических произведениях только Златоуста, да и то всего один раз. Впрочем, упоминание это весьма уважительное. Толкуя видимое противоречие между Деян. 9, 7 и Деян. 22, 9, прп. Максим в qu. dub. 119 пишет: «С точки зрения исторического толкования это место весьма проницательно разъяснил Златоуст». Итак, в знакомстве прп. Максима с сочинениями Златоуста сомневаться не приходится (в чем нельзя быть уверенным относительно других антиохийцах, скажем, блаж. Феодорита Кирского[12] или Феодора Мопсуестийского). Тем более представляется существенным, что в целом ряде своих толкований (в том числе и в буквальном понимании Писания) прп. Максим, не называя Златоуста по имени, явно или неявно отталкивается именно от его трактовок, или же там, где Златоуст дает лишь буквальное толкование, предлагает свое анагогическое.
В первой части предисловия мы уже имели случай убедиться в разном подходе прп. Максима и св. Иоанна Златоуста к трактовке истории про пророка Елисея (4 Цар. 2, 23–24). Но это далеко не единственный пример. Скажем, толкуя притчу о десяти девах (Мф. 25, 1–12) в qu. dub. 43 прп. Максим дает существенно иное ее толкование, чем Златоуст[13], у которого елей мудрых дев понимается как милостыня, а вся притча толкуется в смысле противопоставления дев, не имеющих добрых дел, особенно же дел милосердия, девам, их имеющим (это толкование нашло свое отражение и в Синаксаре, читаемом в Великий вторник на Страстной седмице). В отличие от этого прп. Максим в своем толковании трактует юродивых дев как тех, кто «как кажется, упражняется в деятельной добродетели, но масла знания не имеет» (qu. dub. 47), то есть использует эту притчу, чтобы подчеркнуть, вслед за Евагрием[14], важность в христианской жизни духовного гнозиса, понимаемого у него, конечно, не как отвлеченное интеллектуальное знание, а как опытное богопознание.
Интересно отметить, что в русской церковной традиции самое известное толкование этой притчи принадлежит прп. Серафиму Саровскому в его беседе с Мотовиловым, где подчеркивается, что елей следует понимать не как добрые дела, как считают многие, но как благодать Святого Духа[15]. При этом очевидно, что понимание притчи прп. Серафимом является своего рода полемикой с трактовкой Синаксаря (а значит и Златоуста). Толкование же прп. Максима оказывается ближе к той тенденции, что мы находим позднее у прп. Серафима, – не сводить смысл притчи к призыву к практическому деланию, но подчеркивать необходимость опытного богопознания. Тем более интересно, что, как отмечает Д. Прассас[16], уже у Оригена встречается толкование лампад дев как света знания, а елея в этих лампадах как ревности к познанию [Бога] (ἡ ἐν ἐπιγνώσει σπουδή). Прассас, однако, не обратила внимания, что в действительности у Оригена елей толкуется не просто как «ревность к познанию Бога», но и как «делание заповедей» (ἡ ἐν ἐπιγνώσει σπουδὴ, καὶ ἐντολῶν ἐργασία)[17]. Таким образом, вероятнее всего, толкование прп. Максима в этом пункте прямо или косвенно восходит к Оригену.
Другой пример, где мы находим расхождение прп. Максима со Златоустом – трактовка Быт. 6, 3 в qu. dub. 181. Здесь мы имеем дело с отличием толкования прп. Максима от толкования Златоуста относительно 120 лет, о которых предупреждал Бог перед тем, как привел в исполнение угрозу о Потопе (дни же их будут сто двадцать лет (Быт. 6, 3)). При том, что оба святых отца относят эти слова Бога именно к угрозе Потопа, а не к возрасту человека, прп. Максим в своей трактовке, как кому-то может показаться ни странно, оказывается бóльшим «буквалистом», чем Златоуст. Так, он пишет: «До того, как Ною было велено сделать ковчег, прошло двадцать лет, а строил он ковчег сто лет[18], так чтобы, пребывая рядом с ним, [люди] пришли к исправлению. Затем же Бог навел потоп и истребил всех. Таким образом, истинно гласит Писание, что жить этому поколению сто двадцать лет, с тех пор как Бог погрозил им» (qu. dub. 181).
Златоуст изъясняет историю с угрозой Бога людям перед началом строительства ковчега иначе: «когда сделана была угроза и предсказание Божье, Ною было пятьсот лет, а когда наступил потоп, ему было шестьсот лет. Значит, в промежутке прошло сто лет; но и этими ста годами они не воспользовались, хотя самая постройка Ноем ковчега так сильно вразумляла их. Но, может быть, кто захочет узнать, почему Господь, сказав: “будут дни их сто двадцать лет”, и, обещав потерпеть столько лет, навел потоп до истечения этих лет. И это служит величайшим доказательством Его человеколюбия. Видел Он, что люди каждый день грешат неисправимо, и не только не пользуются неизреченным Его долготерпением во благо себе, но и умножают раны свои; поэтому и сократил срок, чтобы они не сделались достойными еще большего наказания. А какое бы было, спросишь, еще больше этого наказание? Есть, возлюбленный, наказание и большее, и ужаснейшее, и нескончаемое, – наказание в будущем веке. Некоторые, потерпев наказание здесь, хотя и не избегнут тамошнего мучения, однако же, потерпят наказание более легкое, уменьшив великость тамошних мучений здешними страданиями»[19].
Общее в толковании прп. Максима и Златоуста[20] то, что Ной должен был послужить примером остальным людям, но они этому примеру не вняли. Однако прп. Максим, очевидно, не принял толкование Златоуста, что Бог сказал, что подождет исправления людей сто двадцать лет, а потом взял и отменил Свое обетование. Таким образом, толкование прп. Максима оказывается, как ни странно, более «буквальным» (точнее, стремящимся отстоять точное значение слова Божия и верность Бога Своему слову), чем толкование Златоуста, этого ярчайшего представителя антиохийской школы экзегезы, знаменитой своей приверженностью «букве». Возможно в своем ответе прп. Максим хотел подчеркнуть, что Бог, прежде чем наказывать грешников, сначала дает им возможность исправиться самим (чему соответствуют первые 20 лет после угрозы), потом дает им пример праведника (еще сто лет после угрозы), и только потом наказывает.
Другой пример возможной «полемики» с трактовкой Златоуста находим в qu. dub. 188. Отвечая на вопрос: «Какой дух имеется в виду в беседе Господа с Никодимом, где Господь говорит: Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь (Ин. 3, 8), прп. Максим пишет: «Некоторые считают, что Господь говорит о воздушном дуновении (ἀερίου πνεύματος), мне же кажется, что Он скорее говорит о Святом Духе» (qu. dub. 188).
Вероятнее всего под «некоторыми» здесь следует понимать как раз Златоуста, у которого мы находим такое толкование: «Именно о ветре Он говорит: “голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит”. Но если говорит: “дух дышит, где хочет”, то этим не выражает того, будто ветер имеет какой-либо произвол, а только указывает на его естественное движение, движение беспрепятственное и сильное. Писание обыкновенно говорит так и о предметах неодушевленных, например: “тварь покорилась суете не добровольно” (Рим. 8, 20). Итак, слова “дышит, где хочет” означают то, что ветер не удержим, что он распространяется всюду, что никто не может препятствовать ему носиться туда и сюда, но что он с великою силою рассеивается, и никто не может задержать его стремления»[21]. Впрочем, далее Златоуст переходит от ветра к Святому Духу, толкуя слова Христа как сравнение: «Если, говорит, ты не умеешь объяснить ни исхода, ни направления ветра, который однако ж ты ощущаешь и слухом и осязанием, то для чего усиливаешься понять действие Духа Божия, – ты, который не понимаешь действия ветра, хотя и слышишь его звуки? Таким образом слова “дышит, где хочет” сказаны для обозначения власти Утешителя и значат вот что: если никто не может сдержать ветра, но он несется, куда хочет, то тем более не могут задержать действия Духа ни законы природы, ни условия телесного рождения, и ничто другое подобное. А что слова “голос его слышишь” сказаны именно о ветре, видно из того, что Христос, беседуя с неверующим и незнающим действия Духа, не сказал бы: “голос его слышишь”. Потому, как не видим ветра, хотя он и издает шум, так незримо для телесных очей и духовное рождение»[22]. Итак, у Златоуста слова Христа понимаются не в буквальном смысле прилагаемые ко Святому Духу, но лишь в плане сравнения, то есть в переносном. У прп. Максима, напротив, они понимаются в отношении Святого Духа, Который Один, не в переносном, а в собственном смысле слова, «дышит, где хочет»: «Ведь Он полновластно дышит, где хочет, а хочет – в способных воспринять Его и чистых разумом. Вдыхая Божьи дары, они не знают, откуда и по какой причине им послан какой-либо дар [, не знают], к какому исходу ведет ниспослание [им] дара, но только слышат голос, то есть осуществление дара, которое делается явным по причине чистоты жизни и неким образом испускает голос» (qu. dub. 188).
Очевидно, для Златоуста такому пониманию помешало то, что в Евангелии говорится как будто о чувственном восприятии духа («голос его слышишь»), что ко Святому Духу, казалось бы, неприложимо. Но для прп. Максима это не было помехой, разумеется, не потому, что он мыслил о Святом Духе в чувственных понятиях, но, как видно из текста его ответа, потому, что слышание «голоса» Духа он толковал в смысле внятного умному чувству[23] проявления Его действия, то есть духовно-феноменологически. Таким образом, прп. Максим снова более точно следует собственному смыслу слов Божиих, чем Златоуст (ср. qu. dub. 181). При этом такое «буквальное» понимание Писания оказывается у прп. Максима одновременно и в высшей степени духовным. То есть в его экзегезе мы имеем дело с преображением буквы Писания, а не с пренебрежением ею, или каким-то ее уничтожением ради парения ума в бесплотных и отвлеченных умозрениях[24]. Именно в этом контексте следует понимать и то место в экзегезе прп. Максима Преображения, где он говорит, что «белизну одежд [преображенного Христа] видят те, которые очищают букву Священного Писания от облекающей ее дебелости [плоти] и духовным созерцанием взирают на сияющую красоту умных [вещей]» (qu. dub. 191).
Проведенные на целом ряде примеров (которые можно было бы умножать и далее) различия между экзегезой прп. Максима и св. Иоанна Златоуста не ставят своей целью противопоставить друг другу двух великих святых отцов ради очередной «патрологической сенсации». В отличие от научного, церковное сознание не допускает такого противопоставления. Тем не менее, закрывать глаза на определенного рода «натяжение» и проблему, с которой мы здесь встречаемся, было бы малодушно. Более того, имея в виду, что прп. Максим, как это видно из приведенного выше пассажа из qu. dub. 119, с уважением относился к Златоусту, можно предположить, что и для самого прп. Максима отличие в методах его экзегезы и подхода к Священному Писанию с методами Златоуста и подобных ему учителей, представляло определенную духовную проблему. Разрешение этой проблемы не должно было, как это очевидно именно для церковного сознания, лежать в плоскости простого противопоставления и отбрасывания одного в пользу другого, но необходимо было найти место подходу к Священному Писанию, который доминирует у Златоуста, в той перспективе на экзегезу, которую задавал себе сам прп. Максим. Именно такое разрешение проблемы мы и находим в более позднем сочинении прп. Максима – Главах о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия, где, в частности, читаем: «Тот, кто с помощью дебелых примеров и речений, соответствующих способности слушающих, преподносит [им] нравственное научение Слова, делает это Слово плотью. А тот, кто с помощью возвышенных умозрений излагает таинственное богословие, делает Слово Духом» (cap. theol. 2, 38)[25]. Весьма вероятно, что, говоря о преподающем нравственное наставление в соответствии со способностями слушающих, прп. Максим имел в виду в первую очередь такого великого пастыря и педагога, как св. Иоанн Златоуст.
Очевидно, что нравственно-назидательная экзегеза имеет важное воспитательное значение, существенное при обращении Церкви к миру. Тем не менее, очевидно и то, что при вытеснении такой нравственной экзегезой, экзегезы, в которой, как говорит прп. Максим, Слово только и становится Духом, церковная экзегеза лишается своего подлинного основания и источника со всеми вытекающими последствиями[26]. Ибо ведь и плотью становится Слово, Которое изначально и присно – Бог, а последнее открывается именно в той монашеско-гностической экзегезе Священного Писания, великим и одним из последних в первое тысячелетие христианской эры представителем которой был прп. Максим, разработавший основные принципы этой экзегезы уже в Вопросах и недоумениях.
Понимание прп. Максимом места нравственно-назидательной экзегезы следует иметь в виду еще и потому, что и экзегетические сочинения прп. Максима, в первую очередь Вопросы и недоумения и Вопросоответы к Фалассию, как полагают некоторые исследователи, были написаны с педагогической целью (характерным в этом отношении является известное сочинение Пола Блауверса, посвященное Вопросоответам к Фалласию: Exegesis and Spiritual Pedagogy[27]. Мы не беремся наверняка утверждать, что Qu. dub. были написаны не с педагогической, а с какой-то иной целью[28], однако, если даже здесь и можно говорить о «педагогике», то совсем иной и в ином смысле, чем применительно к экзегетическим проповедям св. Иоанна Златоуста.
При этом следует отметить, что, говоря о морально-назидательной экзегезе Св. Писания Златоуста, мы имеем в виду не обычное изложение моральных требований и норм на основе Св. Писания, а нечто куда более сложное. Простое изложение морального закона можно встретить, например, в экзегезе блаж. Феодорита. Так, отвечая на вопрос: «Почему [Писание] повелевает убивать бодливого вола (Исх. 21, 28)», Феодорит отвечает: «Бессловесными научает одаренных разумом, какое зло есть убийство»[29]. Здесь мы имеем дело с простой моралью: убийство – зло[30]. Для сравнения прп. Максим на тот же вопрос дает толкование уже не в моральном, а в духовно-аскетическом плане, то есть предназначенное не для «всех людей» (ибо мораль есть форма всеобщности, и в этом ее слабость), а для человека, находящегося в специфической духовной ситуации «подвига», ищущего Бога и сталкивающегося на этом пути с определенными препятствиями и искушениями: «Бодливый вол – это имеющий ревность не по разуму, якобы по Богу, и ее употребляющий для нападения на других[31]. Эту страсть следует умертвить, дабы она, поразив многих, не убила их, а также не уготовила опасности и для своего хозяина, то есть души» (qu. dub. 24). Смысл этого толкования, очевидно, в том, что на подвижническом пути человек может впасть в состояние, когда ему кажется, что он ревнует по Богу, скажем, отстаивая православное учение или какой-то род подвижнической жизни, или какие-то духовные принципы (пусть, самые правильные), но, если при этом в нем возникает агрессия против других, то такое ревнование не есть истинная ревность по Богу, и эту страсть нужно умертвить. Так заповедь Ветхого Завета в устах прп. Максима истолковывается применительно к подвижнической жизни[32], что в этом специфическом смысле может рассматриваться как пример «духовной педагогики».
В случае экзегезы св. Иоанна Златоуста, однако, мы имеем дело вовсе не с обычным морализированием, как в приведенном примере из Феодорита, а с педагогическим морально-нравственным наставлением, исходящим из глубокого знания человеческой психики и проецирующего на Писание именно его. Стоит привести пример такого рода экзегезы и сравнить ее с экзегезой прп. Максима, чтобы понять, что он предлагает нечто иное не просто и не только по отношению к обычной моральной проповеди, но по отношению к высшей форме этой проповеди, каковой, несомненно, является экзегеза Златоуста.
Так, толкуя слова ап. Павла: «если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья» (Рим. 12, 20), св. Иоанн задается вопросом о том, почему ап. Павел здесь как будто отклоняется от заповеди любви и вместо нее учит, как может показаться, изощренной ненависти к врагам. На этот вопрос Златоуст дает следующий ответ: «Павел, … желая … расположить того, кто не хочет даже видеть своего врага, сделаться его благодетелем, прибавил “горящие уголья”, чтобы он, побуждаясь надеждою наказания, решился на благодеяние оскорбившему его. Как рыбак, закрыв уду со всех сторон приманкою, бросает ее рыбам, чтобы они, прибегая к обычной пище, удобнее были пойманы и удержаны, так точно и Павел, желая расположить обиженного делать благодеяние обидевшему, предлагает не пустую уду любомудрия, но, закрыв ее горячими угольями, как бы некоторою приманкою, надеждою наказания склоняет оскорбленного к благодеянию оскорбителю; а когда тот уже склонился, то удерживает его и не допускает удалиться, так как самое свойство дела привязывает его к врагу, и как бы так говорит ему: если ты не желаешь по благочестию напитать обидчика, то напитай по крайней мере в надежде наказания. Он знает, что, если тот приступит к такому благодеянию, то положит начало пути к примирению. Ведь никто не может иметь врагом того, кого он питает и поит, хотя бы вначале он и делал это в надежде наказания. Время в своем течении ослабляет и силу гнева»[33].
Это толкование Златоуста, как не трудно убедиться, исходит из определенного понимания человеческой психики (души), человеческих слабостей и человеческой натуры, а главное из того, что и ап. Павел в своих словах исходил именно из этого – тоже был в данном случае учителем нравственности и соизмерял свои слова с понятиями и слабостями аудитории, используя даже греховное, в общем-то, желание отомстить врагу, для того, чтобы в конечном счете привести и обиженного, и обидчика к примирению.
Толкование прп. Максима, в отличие от педагогики Златоуста, абсолютно лишено всякого психологизма, оно разворачивается, как мы увидим, в сфере аскетико-антроплогической (а не морально-нравственной), где нет уже никаких обиженных и обидчиков, но есть лишь человек в его отношении к Богу. Интересно, что прп. Максим при этом выбирает для толкования этих слов не послание ап. Павла, а то место, где они встречаются в Писании впервые, а именно в «Книге Притч»[34]. Вот как звучит у него вопрос: «Что означает загадочное речение из Притчей: Если голоден враг твой, накорми его, если жаждет, напои его. Ведь, делая это, ты соберешь горящие угли на голову его (Притч. 25, 21–22: LXX)?» (qu. dub. I, 27). Уже то, что прп. Максим берет эти слова из «Книги Притч», дает, очевидно, ему основание толковать их не в прикладном нравственном смысле совета, как следует относиться к врагу, когда тебя охватывает ненависть, а в смысле духовном, «притчевом»[35], в той самой перспективе, в которой по большому счету у нас уже нет внешних «врагов», которых можно было ненавидеть так, чтобы предполагать, что слово Божие (хоть в «Книге Притч», хоть в послании ап. Павла) исходило бы из допустимости такой ненависти и играло бы на ней.
На это можно возразить: как же, ведь ненависть реально существует, и нам полезно узнать, как следует себя вести и из чего исходить именно в этой ситуации, когда нас охватывает ненависть к врагу. И ап. Павел, как считает Златоуст, здесь дает совет: если тебя охватила ненависть, делай врагу добро, пускай даже надеясь, если ты не можешь иначе, что этим самым ты навлечешь на него наказание (очевидно, имеется в виду наказание Божие). Однако, не говоря уже о том, что современный человек вряд ли поймается на эту «уду», то есть вряд ли сподвигнется делать добро врагу, надеясь, что того постигнет наказание Божие, но даже если и допустить такое, то ведь такой, вменяемый ап. Павлу Златоустом совет, может и не сработать так, как это описывает Златоуст, то есть, надеясь на наказание Божие, которое навлечет на врага наше хорошее отношение к нему, мы можем вовсе не погасить в себе ненависть, а, напротив, таким хитроумным способом в себе эту ненависть укрепить и разжечь. Такая возможность в принципе не исключена[36].
В отличие от этого прп. Максим в своем толковании «угольев на голову врага» сразу исключает малейшую возможность ненависти к человеку-врагу и игры слова Божия на ней. По его толкованию: «Врагом нашей души является наше тело, которое всегда сражается с нами, поднимая мятеж страстей» (qu. dub. Ι, 27). Заметим, о ненависти или обиде здесь вообще речи нет (как нет ее и в Священном Писании). В то же время прп. Максим рассматривает человека вполне реального, а не какого-то святого, уже достигшего обожения, которому не ведомы никакие страсти. В Притч. 25, 21–22 говорится о том, что врага нужно накормить, поэтому следующим шагом прп. Максим объясняет, в каком смысле следует понимать здесь голод; речь, разумеется, о голоде духовном: «Если мудрование плоти[37], мучимое совестью, голодает, то есть простирается к спасению, или жаждет Божественного знания[38], то должно накормить его посредством воздержания и трудов и напоить изучением Божественных речений» (qu. dub. I, 27). Казалось бы, мы имеем дело с обычным, даже банальным, монашеским советом – поститься, трудиться и изучать Священные Писания, однако, и этот совет облечен в форму духовного парадокса: духовный голод утоляется, для начала, воздержанием. Но еще более интересно, как прп. Максим употребляет здесь выражение ап. Павла «мудрование плоти» (φρόνημα τῆς σαρκὸς – Рим. 8, 6). Обычно оно используется уничижительно и противопоставляется мудрованию (или помышлению) духа (φρόνημα τοῦ πνεύματος – Рим. 8, 6). Однако, прп. Максим использует здесь это выражение ап. Павла в нейтральном смысле, поскольку далее он говорит, что это «мудрование» может тянуться к спасению и жаждать Божественного знания. Речь, очевидно, о нашем душевно-телесном существе, в котором мы имеем внутреннюю потребность в жизни в соответствии с логосом нашей природы, то есть замыслом о ней Бога, потребность, которая не исчезла и с грехопадением, и ощущается нами благодаря мукам совести[39]. Эта потребность, как видно из сказанного прп. Максимом, удовлетворяется через аскезу (спасающую нас от страстей), труд (утверждающий нас в добродетели), и учение (просвещающее нас ведением Бога).
Наконец, прп. Максим приходит и к толкованию собираемых на голову врага «горящих углей»: «Таким образом на его голову [= на голову мудрования плоти. – Г. Б.], то есть на ум, собираются горящие угли – Божественные и духовные помышления» (qu. dub. I, 27). Итак, вместо надежд на кару Божию нашему врагу, которая должна стимулировать нас к добрым поступкам в отношении него, как об этом пишет, толкуя ап. Павла, Златоуст, у прп. Максима мы встречаем совершенно иную перспективу на те же слова Св. Писания; в этой перспективе вообще нет места ненависти или использованию греха ради достижения благих целей. В такой, обратной, по отношению к морально-нравственной экзегезе перспективе существенное отличие «анагогической» духовной педагогики прп. Максима от психологической и морально-нравственной педагогики св. Иоанна Златоуста.
Впрочем, кто-то может задаться вопросом, а как же все-таки быть с ситуацией, когда мы имеем дело с реальным врагом, то есть с другим человеком, ведь ап. Павел говорит именно об этом, и в жизни мы встречаемся весьма часто именно с ней. Прп. Максим ведь уходит от этой проблемы, а как здесь реально поступать не отвечает. Но в том-то и дело, как нам кажется, что именно этот «уход», перенесение всей проблематики внутрь нашей духовной жизни, отказ от ее решения в плоскости чисто морально-нравственной – и есть по большому счету ответ прп. Максима, как и всей монашеско-аскетической традиции. Выстраивать необходимо в первую очередь себя, научиться правильному обращению с «внутренним врагом» нашей души, нашим телом[40], навлечь на его голову горящие угли Божественных и духовных помышлений, и именно это дает настоящую основу для правильных поступков в отношении с ближними, никто из которых для нас на самом деле не является врагом.
[1] Более того, как отмечает Д. Прассас, ссылаясь на исследование Х. Деклерка, многие дошедшие до нас выборки из Qu. dub., были сделаны так, что из них специально выпускались анагогические, духовные толкования, или же толкования, несущие на себе печать «евагрианской» традиции экзегезы (см. Prassas 2003, p. 62; на текстологии Qu. dub. и истории их апперцепции в византийской традиции мы еще остановимся ниже в предисловии).
[2] Phot. bibl., cod. 192a, ed. Bekker, 156b–157a, цит. по изд.: Муретов 1915, с. XIV (с изменениями).
[3] Не так давно он принял постриг с именем Максим в Афонском монастыре Симонопетра. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить признательность о. Максиму, поделившемуся с нами своими работами и мыслями.
[4] Constas 1999, р. 104.
[5] См. Ibid., p. 104–106. Слова Н. Констаса следует уточнить в том плане, что сама по себе «антиохийская экзегеза» достаточно разнопланова, и уж во всяком случае у таких авторов, как блаж. Феодорит Кирский, можно найти во множестве толкования типологические, встречаются изредка у него и анагогические толкования (хотя и у него большинство толкований все же буквально-исторических). В любом случае, идея о сдвиге в экзегезе Писания после VII в. сомнений не вызывает. К этому можно добавить, что «унификации» и стандартизации византийской экзегезы, начиная с этого времени, очевидно, способствовал и 19 канон Пято-шестого собора (692 г.): «если будет изследуемо слово Писания, то не инако да изъясняют оное, разве как изложили светила и учители Церкви в своих писаниях, и сими более да удостоверяются, нежели составлениям собственных слов».
[6] Отголосок этой традиции мы находим в Великом покаянном каноне св. Андрея Критского (VII в.), кстати, выходца палестинской школы, но дальше она, по-видимому, надолго уходит с магистрального пути развития православного богословия, по крайней мере в самой Византийской империи.
[7] Одной из главных причин такого вытеснения был, очевидно, разгром оригенизма в VI в., что бросало тень и на методы экзегезы св. Писания, которые связывались с оригенизмом. По нашей гипотезе, отстаиваемой в статье: Benevich 2009b, оказавшись в Северной Африке около 628 г., прп. Максим вплотную столкнулся с крайними анти-оригенистами, которые выступали, очевидно, и против анагогического толкования Св. Писания, весьма ценимого им, как видно по Qu. dub. Возможно именно поэтому в сочинениях после 628 г.: Трудностях к Иоанну и Вопросоответах к Фалассию – прп. Максим, более жестко, чем в Qu. dub. полемизирует с теми, кто привержен в чтении Писания одной лишь букве, как и в аскетике подвизаются лишь в умерщвлении страстей, не стремясь к гнозису. Ср.: «общниками таинственных хлебов божественного ведения и чаши живительной премудрости не станут односторонне последующие букве и довольствующиеся принесением в жертву бессловесных страстей, и смерть Иисусову прекращением греха возвещающие, а воскресение Его, — ради которого-то и для которого и была смерть, — посредством [совершаемого] умом созерцания, просвещенного добрыми делами праведности, не исповедующим, которые весьма охотно и с готовностью избирают то, чтобы умерщвленным быть плотью (1 Пет. 3, 18), а ожить Духом (1 Кор. 11, 26) никак у них не получается» (Max., amb. 10: PG 91, 1145D–B, рус. пер. архим. Нектария (Яшунского) по: Максим Исповедник 2006, с. 125). Как мы показываем в вышеупомянутой статье, Трудности к Иоанну прп. Максима написаны в полемике не только с оригенизмом, что хорошо известно, но и с представителями такой крайней анти-оригенистической реакции, которая, вероятно, тогда была весьма распространена в Церкви.
[8] См. напр., qu. dub. 6.
[9] См. напр., qu. dub. I, 7.
[10] См. напр., qu. dub. 144.
[11] В этом отношении наиболее характерный пример qu. dub. 143.
[12] Что касается экзегезы Феодорита, то следует отметить, что у него мы находим ту же вопросоответную форму в толковании Священного Писания, какую находим у прп. Максима (см. напр., Theodoret. quaest. in Octat., ed. Fernández Marcos, Sáenz-Badillos). Возможно, прп. Максим спорит с одной частной трактовкой Феодорита (см. qu. dub. 78, прим. 330), не исключено, что в своем толковании создания человека по образу Божию в qu. dub. III, 1 прп. Максим отталкивался от антиохийского понимания «образа», который мы находим в толковании Феодорита на книгу Бытия (вопрос 21), хотя говорить о прямой полемике достаточных оснований нет. В целом же при весьма большом числе совпадающих вопросов по Священному Писанию у прп. Максима и блаж. Феодорита говорить о диалоге с ним Максима или о какой-то явной полемике или интересе к его сочинениям, пожалуй, нельзя (хотя вопрос этот требует дальнейшего изучения). Экзегеза прп. Максима разворачивается, как правило, в другой плоскости, и, если он и читал Феодорита, то по крайней мере в период Qu. dub., его толкования Писания прп. Максима, видимо, не задевали. Можно привести такой пример: в qu. dub. 28 прп. Максим толкует Исх. 21, 22–23, то есть вопрос о наказании за выкидыш из-за того, что ударят беременную женщину. В толковании этого же места Феодорит использует известное антиохийское (разделявшееся, впрочем, и таким александрийцем, как поздний Иоанн Филопон) учение о том, что душа вселяется в зародыш уже после формирования тела (см. вопрос 48 в толковании на книгу Исход). Впоследствии, в amb. 42: PG 91, 1341A прп. Максим будет специально полемизировать с этим учением и даст в связи с этим свое толкование Исх. 21, 22–23, явно расходящееся как с Феодоритом, так и с Филопоном (см. прим. 126 к qu. dub. 28). Однако в Qu. dub. он проходит мимо этого расхождения. Так что есть основание предположить, что в этот период особого интереса к экзегезе Феодорита у прп. Максима не было (что и не удивительно, имея в виду дурную репутацию Феодорита и Феодора Мопсуестийского после Эдикта о Трех Главах). Иное дело – св. Иоанн Златоуст, чья репутация была безупречной, и чье влияние в Церкви было весьма существенным.
[13] См. Joan. Chrys. in Matth. 78: PG 58, 711f.
[14] Ср.: «Деятельные осуществления заповедей недостаточны для совершенного исцеления сил души, если соответствующие им умные созерцания не преемствуют им» (Evagr. pract. 78–79, рус. пер. А. И. Сидорова цит. по изд.: Максим Исповедник 1993. Кн. I, прим. 66, с. 275, с изменениями).
[15] См. Угодник Божий Серафим 1993. Т. 1, с. 128.
[16] См. Prassas 2003, p. 309.
[17] Orig. scholia in Matth.: PG 17, 304. 54–55.
[18] Ср. Быт. 5, 32; 6, 6; 7, 1.
[19] Joan. Chrys. in Genesim 25: PG 53, 220, рус. пер. цит. по изд.: Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия. 1993. Т. 1, с. 243.
[20] См. там же: PG 53, 219–220.
[21] Joan. Chrys. in Joann. hom.: PG 59, 154. 46–58, рус. пер. по изд.: Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 1993. с. 169.
[22] Joan. Chrys. in Joann. hom.: PG 59, 155.1–12, рус. пер. по изд.: Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 1993. с. 169.
[23] Про умное чувство у прп. Максима см. в: qu. dub. 43 и прим. 205.
[24] Сходную оценку экзегезы прп. Максима, впрочем, уже известную по статьям Блауверса и Бертольда, высказал недавно А. И. Сидоров (см. Сидоров 2008, с. 16–18).
[25] Рус. пер. А. И. Сидорова цит. по изд.: Максим Исповедник 1993. Кн. I, с. 241.
[26] Почти полное забвение в православном мире экзегетических сочинений прп. Максима, внимание к которым возобновилось лишь в начале XX в. (начатый перед самой революцией и оборванный ею перевод С. Л. Епифановичем Вопросоответов к Фаласию) – печальное свидетельство того духовного кризиса в православном мире, который обернулся атеизмом и революцией. Нравственная экзегеза, оторванная от мистических корней, почти полностью доминировавшая в России XIX, начала XX в., не смогла в одиночку противостоять тотальному вызову, брошенному со стороны русского коммунизма, атеизма и нигилизма христианскому морализму, подозреваемому в обслуживании интересов господствующего класса или господствующей конфессии.
[27] Экзегеза и духовная педагогика (=Blowers 1991).
[28] Здесь следует отметить, что в то время как П. Блауверс утверждает, что вопросы в Qu. dub. прп. Максим ставит себе сам (то есть это такой риторико-педагогический прием) (см. Blowers 1991, p. 54), Д. Прассас полагает, что вполне вероятно, что прп. Максим дает ответы на вопросы, которые реально возникали в монашеском сообществе (см. Prassas 2003, p. 56–57). Как бы то ни было, не приходится сомневаться, что целый ряд мест, обсуждаемых в Qu. dub. (хотя, вероятно, и не все), являются классическими «трудными местами» для толкователей (не случайно, многие из вопросов у прп. Максима совпадают, скажем, с вопросами блаж. Феодорита, которого он, вполне вероятно, не читал). Иными словами, речь в немалой степени может идти о трудных вопросах, о которых тогда «спорили все». Не исключено, что прп. Максим взялся за свои Вопросы и недоумения потому, что у него был свой взгляд на эти вопросы, отличающийся, как мы убедились, от наиболее распространенного, как был и свой подход к чтению Священного Писания в целом, и он захотел его донести, имея, разумеется, в виду и пользу для читателей.
[29] Толкование на книгу Исход, вопрос 49, рус. пер. цит. по изд.: Феодорит Кирский 2003, с. 101.
[30] Относительно этой морали сразу возникает множество вопросов: всякое ли убийство зло, когда оно не зло, и т. д.
[31] Или: «для отмщения другим».
[32] Совсем не обязательно монашеской в буквальном смысле, так как такая ревность может охватить любого христианина, тем более православного.
[33] Joan. Chrys. in ill.: si esur. enim.: PG 51, 181, рус. пер. с небольшими изменениями цит по изд.: Иоанн Златоуст 1994. Т. 3. Кн. 1., с. 174.
[34] В этом отношении прп. Максим поступает как настоящий библеист, а антиохиец Златоуст, который теоретически должен был бы интересоваться текстологией, даже не упоминает, откуда ап. Павел заимствует свои слова.
[35] Что притча может истолковываться анагогически или аллегорически признавали даже антиохийцы.
[36] И для человека читавшего Ф. М. Достоевского такая возможность, надо сказать, представляется вполне реальной.
[37] См. Рим. 8, 6.
[38] Прп. Максим неоднократно говорит в Qu. dub. о голоде, «но не хлеба и воды, а слышания слова Господня» (Амос. 8, 11) (см. qu. dub. 145; 161; 185).
[39] Ситуация духовного голода и мук совести – не морально-нравственных, а метафизических – тоски от неподлинности своего существования – несмотря на 13 веков, отделяющих нас от прп. Максима, вполне узнаваема и современным человеком.
[40] Впрочем, и его можно называть «врагом» в определенной мере условно. В qu. dub. 149 прп. Максим толкуя слова из Притч. 25, 17: Редко заноси ступню к другу твоему, дабы он, пресытившись, не возненавидел тебя, – говорит, что под другом здесь нужно понимать тело, а притча учит тому, чтобы «промышлять о теле не тщательно, а только лишь стопой души». Так что тело в отношении души у него и «враг», который, впрочем, должен быть накормлен и спасен, и «друг», которого не следует слишком часто «посещать» заботой.
